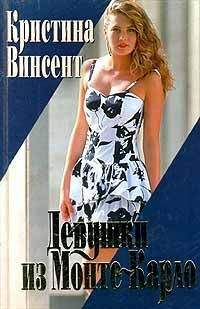– Не сдержит, но задержит, – упирался Воротынский. – Сам мне сказывал, что ныне надобно яко собаке быть, коя незваного гостя за пятки хватает да на порог взойти не пущает, а теперь что – на попятную пошел?
– Так-то оно так, – вздыхал я. – Но не те места, чтобы задержать Девлета. Они лесистыми должны быть, потому как собака, чтоб уцелеть, должна куснуть да тут же и схорониться, а где они спрячутся? А тут, сам гляди, Михайла Иванович, шлях лежит, ровный, как половая доска.
– Жить захотят – найдут захоронку, – отмахнулся князь. – И все. Будя на ентом. Я и так на поводу у тебя пошел, струги[72] на Оку поставил, а в них без малого тысячу усадил, – огрызнулся он.
Со стругами все так, кто спорит. Прислушался он ко мне. Но сунул их не туда, куда я тыкал пальцем, – загнал под Калугу, все к тому же передовому полку. А ведь им тоже прямая дорога под Серпухов, а от него, если надо, в любую сторону, согласно текущей обстановке.
И ничего удивительного нет, что не помог ни вал, возведенный напротив самого удобного брода через Оку, где стоял большой полк, ни здоровенный гуляй-город. Оставив для маскировки подле этого перехода несколько тысяч вместе с пушками для имитации отчаянных попыток переправиться через реку, Девлет под покровом ночи бросил лучшие силы вбок, к Сенькиному броду, и, с ходу сбив жалкую заставу из двухсот человек, прорвался на наш берег. Когда русские ратники подоспели, драться было уже поздно – очень уж невыгодное расположение, да и переправиться успело изрядное число татар.
А перед крымским ханом лежала почти прямая дорога и в конце ее беззащитная Москва…
Глава 22
Не хочу быть полководцем
Когда я появился в шатре Воротынского – останавливаться в самом Серпухове он не пожелал принципиально, демонстративно устроив свою ставку левее, чуть ли не напротив брода через Оку, – на князе лица не было. Таким растерянным я его еще не видел. Таким злым, впрочем, тоже. Это я уже сужу по валявшимся повсюду изодранным грамоткам да перевернутому вверх ногами столику, из-под которого сиротливо выглядывал краешек карты.
«Разве можно верить Бандар-Логам! Летучую мышь мне на голову! Кормите меня одними гнилыми костями! Спустите меня в дупло к диким пчелам, чтобы меня закусали до смерти, и похороните меня вместе с гиеной!» – причитал Балу.
– Все к черту, фрязин, Все, что я задумал, прахом. Не мог Ванька Шуйский людишек поболе отправить на этот брод! А ведь упреждал я его! А теперь что ж – теперь все! Ныне Девлетке прямого ходу до Москвы нет ничего. Ежели налегке, так в два дни поспеет.
– Обогнать никак? – осторожно осведомился я.
Воротынский сердито мотнул головой:
– Одна дорога в этих местах. По иным местам идти – людишек загонишь, а опередить не выйдет. К тому ж, гонец сказывал, ногайцы прочих ждать на переправе не стали. Едва передовой полк Девлетки на наш берег ступил, как они с рассветом подались вперед.
– А наш передовой полк где?
– Яко и уговаривались, следом шел, да что проку. Людишек-то мало. Куснул и назад, – досадливо отмахнулся князь.
– Вот пусть и дальше кусает, – посоветовал я. – Ты про уговор с князем Токмаковым не запамятовал? Самое время. Шли к нему гонцов, и пусть он нам весточку отправляет.
– Мыслишь, пора? – вздохнул Воротынский.
– А чего ждать? – пожал я плечами.
Весточку предполагалось выслать, когда станет совсем худо. Текст прежний, как и тогда, под Москвой. Мол, держитесь, а ждать вам недолго, и помощь близка – ведет государь Иоанн Васильевич свежие полки из Ливонии, а ныне он с ними уже под Дмитровом. Испугается Девлет или нет – вопрос сложный, но, даже в случае если он не поверит, мы ничего не теряли, кроме одного гонца.
Когда все это затевали, то, учитывая вероятность пыток, я еще отдельно переговорил с князем Токмаковым. Мол, гонец обязательно расскажет все, что знает, и все, что видел. Поджаривание пяток на костре гораздо эффективнее любой «сыворотки правды» – почему-то охватывает горячее желание сказать правду, и только правду. Потому надо перед отправкой создать для него полное правдоподобие.
Сделать это легко. Когда ратник придет за грамоткой, он непременно должен заметить усталого, в пыли и грязи, человека, спящего где-нибудь на лавке. То есть прискакал с весточкой, не ел, не спал два дня, вот и свалился прямо тут, а будить жалко – вон как умаялся. Обмана почти не будет – наши гонцы именно так и будут выглядеть. А на столе чтоб непременно лежала царская грамота. Любая, лишь бы с нее свешивалась государева печать.
Жульство, как любил говорить дьяк Афонька в известной киносказке, будет заключаться лишь в том, что снаряжаемый в дорогу гонец будет считать, что умаявшиеся гонцы не от Воротынского, а от самого царя. Начнут гонцу князя Токмакова поджаривать на костре пятки – он мигом вспомнит и храпящего вестника, который свалился на лавку от усталости, даже не смахнув с себя придорожную пыль, и грамоту с царской печатью.
Улыбнулся Токмаков. Осторожно, одними уголками рта. Смеялись лишь зеленые глаза с прищуром.
– Сам надумал? – спросил небрежно.
– Сам, – кивнул я. – Мы так в гишпанских землях маврам головы дурили.
Последнее для вящей убедительности. Мол, опробовано, и результат имелся.
Юрий Иванович коротко кивнул:
– Так все и сделаем. Токмо поможет ли? Крымчаки – не мавры.
– Терять-то ничего не теряем, – развел я руками.
Жаль, конечно, что придется так рано этим пользоваться, но кто же ждал, что чуть ли не с первых дней все пойдет наперекосяк.
– Бросать все придется, – вздохнул Воротынский, когда мы вышли из шатра.
– То есть как все? – насторожился я. – И гуляй-город, который сколотили, тоже?
– Ежели брать его с собой, то мы и вовсе Девлета не нагоним, – пояснил князь, – а нагнать надобно.
Ну уж дудки! Я мог согласиться со многими предложениями Воротынского, поскольку давно заметил – без этого нельзя. Если даже они не ахти, все равно одно из них, а лучше два-три надо непременно одобрить, иначе строптивый князь закусит удила и пошлет меня далеко-далеко. Но стоит принять что-то, да еще похвалить, выразив восторг его мудростью, отвагой или решительностью, как Михайла Иванович становится гораздо податливее и в свою очередь может пойти навстречу некоторым моим поправкам. Цирк, ей-богу! Хочешь не хочешь, а приходилось проявлять чудеса эквилибристики, иначе того и гляди слетишь с каната.
Однако гуляй-город я бросать не собирался. Пускай мы бросим все, что угодно, но не его – в какой-то мере мое родное детище. Разумеется, изобрел его не я, и произошло это давным-давно, однако под моим руководством строители внесли в него этой весной столько новшеств, что в какой-то мере гуляй-город и впрямь стал мне родным.