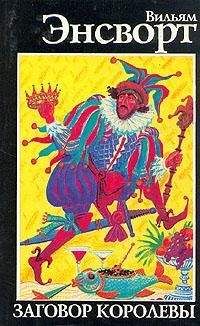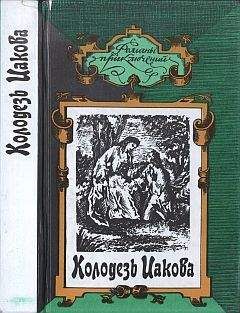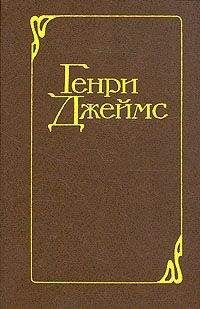Кричтон на мгновение погрузился в задумчивость.
– Уверены вы, что она действительно ваша дочь? – спросил он наконец.
– Слушайте меня, монсеньор, – отвечал астролог. – Если бы голос крови, который с той минуты, как я увидел ее в первый раз, не говорил мне об этом, не звучал бы в моем сердце, если бы чувство привязанности не влекло меня к ней неудержимо, если бы она не имела сходства со своей матерью, на которую она походит как красотой, так и несчастьем, если бы, скажу я вам, ничего этого не было, ваше открытие и объяснение слов, вырезанных на талисмане, убедили бы меня, что она моя дочь. Было время, монсеньор, когда это старое тело было полно силы, когда горячая кровь бежала в этих ослабевших жилах, когда это бледное лицо блистало свежестью молодости. В эту жаркую пору моей жизни я любил. Джиневра Малатеста происходила из знатной, но разоренной фамилии Мантуи. Ее красота привлекла мое внимание. Моя страсть была так же сильна, как и страсть этого негодяя Гонзаго, но, чтобы достичь своей цели, я прибег к золоту, а не к силе. Ослепленная моими подарками более, чем побежденная моими мольбами, Джиневра уступила. Последовало раскаяние. После этого преступного часа я более не видал ее. Мои богатые подарки были возвращены мне. Она бежала. Я последовал за ней в Венецию, но никак не мог открыть ее убежища. Обвиненный в магии и волшебстве, я был внезапно вынужден оставить венецианские владения и искать приюта во Флоренции, где я и оставался на службе у Лоренцо Медичи, герцога Урбино, до тех пор, пока он не послал меня после смерти Генриха II ко двору своей дочери Екатерины. Вы знаете мою дальнейшую историю, монсеньор. Это была цепь самых черных преступлений. Я был послушным орудием королевы-матери, я поддерживал ее честолюбивые замыслы, я помогал ей избавляться от ее врагов. Моя рука приготовляла ее яды, моя решительность поддерживала ее в минуты колебания. Я был страшным бичом, каравшим пороки этого развращенного двора. Я не щадил никого. Человеческие чувства были чужды моему сердцу. В Екатерине я нашел ум, подобный моему. Я служил ей верно, потому что через нее мог заставлять всех подчиняться моей власти. Я употреблял все средства, изобретенные демоном, для унижения и гибели людей. Я составлял любовные напитки, я приготовлял смертоносные яды. Я подкапывал источник жизни в мужчинах, я позорил чистоту женщин. И я радовался моему гибельному влиянию, жалость была мне незнакома, укоры совести меня не смущали…
– Увы! – продолжал он разбитым голосом. – Мое сердце не так оледенело, не так бесстрастно, как я думал. Я хотел бы перед смертью сделать какое-нибудь доброе дело.Я хотел бы, чтобы смерть избавила меня от раздирающих меня мук совести. Я хотел бы отомстить за мое дитя и вознаградить ваше благородное поведение.
– Тс! Она приходит в себя! – сказал, прерывая его, Кричтон.
– Да, это правда, – заметил Руджиери, глядя с беспокойством на бледное, искаженное лицо Джиневры. – Дай Бог, чтобы память не вернулась к ней вместе с сознанием.
Пока он говорил, Джиневра открыла глаза. Взгляды, которые она бросала вокруг себя, показывали, что рассудок к ней еще не возвратился.
– Кричтон! – вскричала она с глубоким вздохом. – Кричтон! Кричтон!
Шотландец протянул ей руку, но, хотя ее глаза были устремлены на него, было очевидно, что она его не узнавала.
– Джиневра, – сказал нежным голосом Кричтон. – Я около вас, не бойтесь ничего.
Несчастная девушка выдернула руку, взятую было Кричтоном, и быстро поднесла ее ко лбу.
– Вы в безопасности, дитя мое, – сказал астролог, нежно прижимая ее к груди. – С вами не может случиться ничего дурного.
Но Джиневра с пронзительным криком вырвалась из объятий отца.
– Боже! Сжалься над ней! Она потеряла рассудок! – вскричал астролог.
– Нет! Нет! Я не безумна! Я слишком несчастна, чтобы сойти с ума. Горе, подобное моему, не находит убежища в безумии… Я знаю тебя слишком хорошо!.. Ты сообщник этого низкого принца!.. О!..
И ее голос был заглушен рыданиями.
– Я твой отец, Джиневра, – сказал астролог.
– Отец? – повторила с горечью Джиневра. – А! Так значит отец продал меня, выдал меня на поругание.
– Я хотел защитить тебя ценой моей жизни, я хотел убить твоего оскорбителя, я лучше отдал бы последнюю каплю моей крови, чем позволил бы одному волосу упасть с головы твоей!
– Где амулет, который я носила на шее? – спросила Джиневра.
– Увы! – отвечал астролог. – В одну роковую минуту я взял его.
– Ты? – вскричала Джиневра. – Тогда, значит, ты выдал меня на позор. Ты не отец мне! Оставь меня!
– Я не знал силы этого талисмана, – отвечал Руджиери, – я не знал, кем был он тебе дан.
– Его дала мне моя умирающая мать, – сказала Джиневра. – Пусть ее проклятие упадет на твою голову.
– Я его чувствую, – сказал Руджиери со взглядом, полным муки, – но произнесенное тобой, оно для меня вдвойне ужасно.
– Я довольна этим, – сказала с силой Джиневра, – отпусти меня, чудовище!
– Дитя мое! Дитя мое! – молил в отчаянии астролог.
– Если ты мне отец, то дай мне свободу или убей меня! – вскричала Джиневра. – Это рука отца, – спросила она твердым голосом, – взяла у меня мой кинжал во время сна?
– Нет! Клянусь памятью твоей оскорбленной матери, – отвечал Руджиери, – я не знаю ничего, что с тобой было с того времени, как ты оставила мое покровительство.
– Твое покровительство? – повторила Джиневра. – Не думай обмануть меня. Мать говорила мне, что мой отец был существом, покинутым Богом и людьми. Что он продал свою душу демону, что он поклонялся ложным богам, что он занимался волшебством и приготовлял яды. Так ты этот человек?
– Да, – отвечал глухим голосом Руджиери.
– Так будь проклят! Оставь меня.
– Куда ты пойдешь, дитя мое? У тебя нет ни одного друга на земле, кроме твоего презренного отца.
– Это ложь! У меня есть один друг, который меня никогда не покинет.
– Вы правы, – сказал шотландец. – Во мне вы найдете брата.
– Кричтон! – вскричала Джиневра. И голова ее бессильно упала на грудь.
– Она умерла! – вскричал в испуге шотландец. – Удар был слишком силен. Это я убил ее.
– Нет, монсеньор, – печально ответил Руджиери, – ее мучения еще не кончились. Позволите вы мне, пока она без чувств, перенести ее в монастырь Святого Элуа?
– Я в затруднении, я не знаю, как мне лучше поступить, – отвечал шотландец, широко шагая взад и вперед по комнате. – Козьма Руджиери, – продолжал он, вдруг остановившись перед астрологом. – Как отца я тебя жалею. Но твоя жизнь, по твоему собственному признанию, была бесконечной цепью измен. Ни с Богом, ни с людьми, ни с врагами, ни с друзьями ты не был прям и честен. Я не могу доверять тебе.