– Зверь, а не часы! Точность невероятная! В каких только передрягах я с ними ни побывал… И – ничего, идут! – Хозяин навел на столике порядок. – Значит, ты читай, пей чай – он еще не остыл, – и не забывай про курабье и халву: ты к ним даже не притронулся. Вернусь, поедем ко мне и тогда уж как следует закусим: я еще тоже не обедал. У вас, у русских, есть отличная, поговорка: «Середка сыта – края играют…»
Нури Алиевич, пощелкав крышками часов, метнулся к двери, изобразив на лице ужас:
– О, Аллах! Опаздываю! Значит, вернусь часа через полтора и буду в полном твоем распоряжении…
…Много лет назад впервые встретились они на Лубянке: юные комиссары! Теперь у одного – со спиной нелады, у другого – виски седые… И лет-то им не так уж много, если подходить с обычной меркой! А скольких ровесников уже нет… То сердце вдруг откажет, то нож или пуля его остановят, то там, на чужой стороне, ошибку непоправимую совершишь, а за ней – провал…
Горин, устроившись поудобнее, мельком пробежал начало заявления – кому, от кого, дата – и, невольно задержавшись на первой фразе: «Все началось в Тегеране в семнадцатом году…», напоминавшей начало приключенческого романа, стал медленно читать историю жизни человека, которого он никогда не видел, но чей облик с каждым эпизодом, с каждой страницей, исписанной мелким, четким почерком, становился для него все яснее.
Так постепенно оживает в проявителе фотография: сначала это – пустой кусочек картона, потом на нем появляются глаза, нос, рот… Еще немного – и кто-то, уже вполне реальный, смотрит на тебя со дна пластмассовой ванночки из-под слоя проявителя.
Прошел час. Горин уже многое знал о Кесслере – так образно описал Максим Фридрихович свою жизнь! У этого технократа несомненно были литературные способности.
…Все действительно началось в Тегеране в семнадцатом году. Высокий, сухопарый, с небольшой щеточкой усов, штабс-капитан Кесслер, сотрудник аппарата русского военного атташе, поднимался по парадной лестнице французской миссии.
Ему сегодня особенно не хотелось ехать на этот прием, тем более что был он неофициальным. Так, очередная возможность для европейцев пообщаться… Именно на таких приемах можно было обменяться последними новостями, слухами, анекдотами, лишний раз даром выпить и немного пофлиртовать. Дипломатический корпус, как всегда летом, изнемогал от жары и скуки…
Максим Фридрихович вошел в зал, где кучками уже толпился народ, совершил ненавистную ему процедуру целования дамских ручек, поздоровался с мужчинами – кивок головы, легкое звяканье шпор – и занялся своим любимым в этом доме делом: рассматриванием редчайшей коллекции картин посла, с которыми тот не расставался, куда бы ни забрасывала его служба.
Это были подлинники – наброски, эскизы, небольшие законченные вещи – группы французских художников, названных «батиньольцами», по имени квартала, где ютились их скромные мастерские. Эдуард Манэ… Ренуар… Дега… Сислей… Писсарро… Клод Моне, Фредерик Базиль…
Максим Фридрихович переходил от картины к картине, и в сердце, впрочем, как каждый раз, вливалась горячая струя… Кесслер вдруг вспомнил пророческие слова Армана Сильвестра: «Что должно явно ускорить успех этих пришельцев – это то, что картины их написаны в смеющейся гамме. Свет заливает их полотна, и все в них – радость, ясность, весенний праздник»… Как верно, хотя сказано десятилетия назад!
– Любуетесь? – кто-то взял Кесслера за локоть. – Отличные вещицы! Мне тоже нравятся…
Максим Фридрихович по голосу узнал сотрудника английского посольства майора Шелбурна. Радость от импрессионистов мгновенно исчезла – на душе вновь стало скверно, как по дороге на прием: из-за событий в России, из-за неопределенности положения русской миссии. Теперь еще этот майор, которого Кесслер недолюбливал! Но делать было нечего, пришлось обернуться, поздороваться, перекинуться малозначащими фразами…
А тут их окружили расфранченные дамы и накинулись на неразговорчивого штабс-капитана с вопросами, которых он заранее боялся, ибо ответить на них толком не мог: посольство было почти полностью изолировано от России и не имело оттуда сколько-нибудь достоверных сведений.
Кесслера спас Шелбурн, бесцеремонно отделавшийся от назойливых женщин, обязательно хотевших знать, действительно ли арестован русский царь, где его семья, как выглядит месье Керенский, правда ли, что он холост и отлично играет в теннис…
Они вышли в сад.
– Здесь хоть спокойно можно дышать! В курительной – сплошной дым, а главное, одни и те же люди, одни и те же разговоры… – Майор достал сигару, а Кесслер – свою неизменную трубочку-«носогрейку», заканчивающуюся симпатичным сабо из вереска, в которое и набивался табак: память о Голландии.
– Как вас дамы-то, а? Совсем заклевали! Прямо лопаются от нетерпения и любопытства… Все бы им знать! – Шелбурн забавлялся, выпуская колечки дыма, которые надолго повисали в неподвижном мареве: было еще довольно жарко, а долгожданный ветерок что-то не появлялся.
Они стояли друг против друга и покуривали – разведчики, союзники по борьбе с немецко-турецким альянсом, не друзья и не враги – просто офицеры, воспитанные люди, которых служба свела в этом запущенном посольском саду с развесистыми платанами, лениво раскинувшими свои пышные ветви, с грустными, прямо как на Руси, ивами, склонившимися над бассейном и окунувшими в него длинные ветви, с дурманно пахнущими огромными кустами фиолетовой, а не желтой, как привык Максим Фридрихович, акации и померанцевыми деревьями… Один – в удобном френче с четырьмя накладными карманами, другой – в приталенном мундире с эполетами, сверкавшими серебряным шитьем.
Кесслер изредка бросал взгляд на высокую статную фигуру майора, на его холеное, довольно приятное лицо, на каштановую, ловко уложенную шевелюру и вспоминал те пересуды, которые ходили о Шелбурне в дипломатической среде.
Говорили, что, несмотря на свой невысокий чин, он занимал в английском Генштабе довольно солидную должность. Большой любитель женщин, он сошелся с женой своего шефа, а потом, намереваясь занять его место, начал того шантажировать. После ряда денежных махинаций был «сослан» в Тегеран… И все это – при такой благообразной внешности! Но что – внешность? Шелбурн не уставал подчеркивать, что он «человек, сделавший себя сам».
И все же в тот вечер Максиму Фридриховичу было наплевать как на внешний, так и на внутренний облик майора Шелбурна. Кесслера крайне волновало положение на родине. После февральского переворота в Иран стали поступать самые неимоверные сведения! Газеты, приходившие с большим опозданием, освещали события весьма противоречиво. Оставалось только гадать – как же там, что? И жадно ловить взаимоисключающие друг друга слухи о Временном правительстве, об этих «варварах-большевиках», собирающихся разрушить так долго создававшуюся цивилизацию, и надеяться, что лихолетье минет, и уповать на то, что привычный – законный – правопорядок будет все-таки восстановлен…
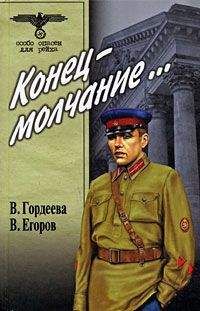
![Владлен Бахнов - Иван Васильевич меняет профессию [альбом]](https://cdn.my-library.info/books/20345/20345.jpg)



