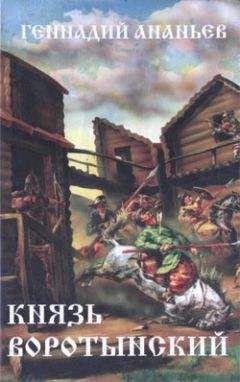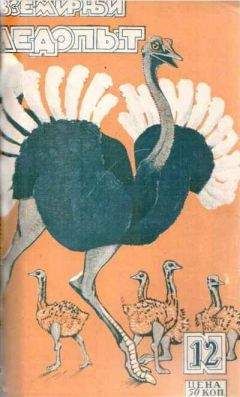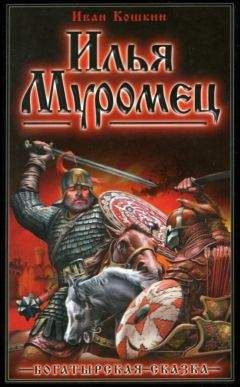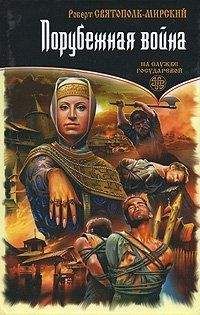Но не это было самым важным сейчас для князя Михаила Воротынского. Дворец построится. Куда ему деваться? А вот как с намеченным строительством крепостей и засечных линий? Молчит пока по этому поводу самовластец. Не зовет для беседы главного порубежного воеводу.
Впрочем, не спешит принимать Иван Васильевич и послов крымского хана. Выжидает чего-то.
О послах, понятное дело, у князя Михаила Воротынского малая забота, а вот о том, как выполнять Приговор боярской думы, без отдыху наседают одна за другой мысли. Рати окской нет. Вся, кроме одного полка, погибла. А без нее как? Вот и проводил много времени Михаил Воротынский в Разрядном приказе, наскребая людей для новых четырех полков. Подготовил он с Логиновым и несколько новых росписей по тягловой повинности городам с учетом того, что они выделяют людей на обустройство и заселение Москвы. Полностью подготовившись к разговору с царем, князь Михаил Воротынский сам сделал первый шаг.
– Время, государь, идет. Боярский наказ и твое повеление не исполняются. Дозволь приступить, прежде мои новые предложения и предложения Разрядного приказа послушав.
– Послезавтра послов Девлетки приму. На следующий день, после заутрени, жду.
К приему послов крымского хана готовились основательно. Одежду велено было надеть боярам, князьям и всем иным, кому надлежало присутствовать на приеме, самую никудышную, цветом однотонную, серую либо черную, без единого украшения. Даже перстни печатные надлежало снять. Перед троном, на который было наброшено серое рядно, установили частую решетку с узким проходом сбоку. Мысль такая: не людей царь принимает, а зверей диких, для жизни опасных. Только рындам не велено было менять одежды и посольские топоры на худшее оружие, да короны все три держать над царевой головой вельможами со всей пышностью. И еще велел царь Иван Васильевич облачить посла крымского хана в дорогую соболью шубу, жемчугом шитую, а шапку преподнести ему из чернобурки. Все остальные вельможи, посла сопровождавшие, оставлены были без внимания. Как приехали в своих походных овечьих одеждах, в том велено было вести их на прием царев. С крепкой охраной к тому же.
В урочный час кованые ворота Казенного двора отворились (а именно там держали крымцев под доброй стражей), и в окружении стрельцов вывели посольство, аки преступников, идущих под топор палача. Взбешенные таким унижением, метали гневные молнии налитых кровью раскосых глаз вельможи крымские, скулы их, и без того выпирающие, вздулись жгутами, лица злобно-багровые, от взгляда на которые оторопь берет. И только важно шагавший впереди своих соплеменников посол гордо нес и свою голову, увенчанную высокой шапкой, и свой живот, на котором поверх ласкового меха скрестил он грубые руки, привыкшие к жестким поводьям, к сабле, к тугому луку. Он, похоже, не замечал плотных рядов стрелецких, так был польщен вниманием, ему оказанным, и так обрадован необычайно дорогим подарком царя, а может, представлял, что стрельцы не конвоируют его, а приставлены для охраны от возможного нападения разъяренной толпы. Впрочем, толпы никакой не было, а те немногие люди, кто видел эту картину, невольно улыбались, хотя в те черные дни для Москвы людям было не до улыбок.
Когда посол Девлет-Гирея вошел в тронную палату, величественно неся увенчанную высокой шапкой голову и ступая по узорчатому половику заскорузлыми от конского пота сапогами так, словно на ногах его были шитые золотом сандалии, а думных бояр даже не удостоил взглядом, почти вся дума тоже заулыбалась, хотя и ей так же было далеко до улыбок.
Наконец увидел посол решетку в нескольких метрах перед царским троном и остановился пораженный. Дышащее благородным высокомерием лицо посла вмиг побагровело и стало похожим на бычью морду. Он и взревел по-бычьи:
– Так не принимают послов великого хана рабы его!
– Ты будешь допущен до руки великого князя, Царя всея Руси, – спокойно ответил послу пристав его. – Ты один.
Не были бы предусмотрительно отобраны у татар их сабли и ножи, наверняка кинулись бы они на стрельцов, на бояр думных, не вынеся столь явного оскорбления. Теперь же они только скрежетали зубами, с ненавистью глядя на стрельцов, еще плотнее сомкнувших плечи, и на бояр да на самого Ивана Васильевича. Пристав посла, указав на узкий проход в решетке, пригласил посла совершенно будничным голосом:
– Проходи вот туда.
Клокоча гневом, посол стал протискиваться между железными прутьями, стараясь все же не повредить дорогой шубы, а как оказался за решеткой, тут же словно из-под земли выросли возле него пара богатырского сложения опричников, готовых в любой миг скрутить посла в бараний рог. Один из опричников настойчиво потребовал от посла:
– Шапку долой!
– Пусть его, – остановил опричника царь Иван Васильевич. – Пусть покрасуется. Небось, не нашивал в жизни ничего похожего. – И к послу: – Слушаю, что велел сказать тебе хан твой.
Не поинтересовался, как принято было в те годы по этикету, о здоровье ханском. Еще одна мелочная демонстрация своего величия сыграла совершенно иную роль, какая ей предназначалась: посол воспринял ее с усмешкой: «Побитый пес скалит беззубую пасть». Он даже снял шапку и поклонился.
– Мой и твой, князь Иван, повелитель просил сообщить тебе, своему рабу, что жив и здоров. Еще он пожелал спросить тебя, как понравилось тебе его ханское нерасположение, показанное огнем и острой саблей? Он послал тебе письмо и щедрый подарок.
Посол, откинув полу шубы, достал из-за пояса свиток и протянул его царю, а когда дьяк, стоящий за троном, взял свиток, посол достал небольшой нож с рукояткой из копыта каракуйрука, в изрядно потертых ножнах, и тоже протянул его Ивану Васильевичу.
– Мой и твой, князь Иван, повелитель, да продлит Аллах годы его царственной жизни, посылает тебе вот этот нож, чтобы ты в утешение себе перерезал свою глотку.
– Вон! – крикнул царь Иван Васильевич, и дюжие опричники в один момент вытолкнули посла через щель в решетке, там стрельцы-охранники подхватили его, швырнули в кучу татарских сановников и, подталкивая бердышами, погнали посольство Крымское прямехонько на Казенный двор.
На следующее утро, едва лишь занялась заря, князь Михаил Воротынский опустился на колени перед образом Спаса, молясь дать царю всея Руси силу не отступиться от планов порубежного устройства юга отечества, а ему, самому князю, твердости духа в беседе с царем.
Внемлил, видимо, Бог горячей молитве княжеской, ибо царь почти со всем согласился, что предложил князь Михаил Воротынский, хотя поначалу сердце екнуло у главного воеводы порубежного, и руки чуть было не опустились.