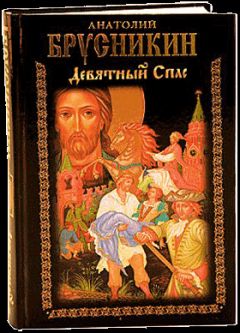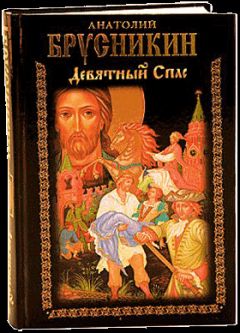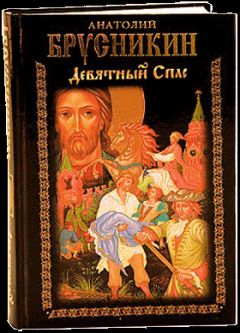Не сразу, но помогло. Рисование-то Петеньке задалось с самого начала, так что оба учителя только дивились, но скучноумие и малоречивость сошли постепенно. Словно бы спящий разум пробуждался после долгой ночи. Со временем мальчик выправился. Таким, как другие, не сделался, всё равно остался на особицу, однако дурачком уже не казался, а про раннее своего детство ничего не помнил. Ни про одинокое житьё в родительской деревеньке, ни про Сагдеево. А и ладно. Что там вспоминать?
К юношескому возрасту Петя доспел миловидным и степенным, не как обычные недоросли. Это-то Автонома Львовича больше всего и тревожило. Что за парень осьмнадцати лет, который на охоту не ездит, вина не пьёт, на жёнок не смотрит?
Однажды, правда, слуги шепнули Зеркалову, что дворовая девка Парашка с баричем подолгу в мыльне запирается. Автоном Львович пошёл подглядывать в щёлку. Сначала обрадовался: Парашка лежала на полке совсем голая. Но Петя был одет, стоял поодаль, перед деревянной доской, и к девке не подходил. Рисует, понял отец и закручинился. Учинил потом Парашке допрос и даже тайный осмотр. Она оказалась нетронутой. Беда! Впору снова Брандта звать.
Родитель уже и не рад был, что сызмальства приохотил Петюшу к бесполезному малеванию. Зачем это простолюдинское искусство генеральскому сыну? Перед людьми стыдно!
Но некоторое время назад взгляды на сей предмет пришлось изменить. Всё из-за той же Парашки.
Парсуну, на которой она была изображена возлежащей на лугу в виде грецкой нимфы, Автоном Львович забрал себе. Петя, когда заканчивал картину, обычно интерес к ней утрачивал, и холст пылился где-нибудь заброшенный, а то и отправлялся на помойку. А тут Зеркалову пришла мысль приспособить безделицу для пользы – подарил нимфу Парашку одному нужному лицу, большому сладострастнику. Тот вскоре продал картину самому Александре Даниловичу Меншикову. Меншиков же преподнёс изображение государю, выдав за италианскую работу, и повисла та картина в доме у самой лейб-метрессы Катерины Василевской. Шутка ли!
А ещё прознал гехаймрат от сведущего человека, что ныне в Европе художники состоят в большой чести, и есть такие, кого в подлом звании не числят, а принимают при королевских дворах, жалуют орденами и платят за картины огромные деньги.
Призадумался тут Автоном Львович. Юношей, кто гож на коне скакать и шпагой махать – пруд пруди, а Петруша один такой. Не выйдет ли от художества больше навара, нежели от армейской иль статской службы?
Он накупил лучших красок и холстов, заплатил целых пятнадцать рублей за деревянный ящик, называемый «кавалетто» – чтоб носить весь художнический припас с места на место, а ещё заказал в Венеции какую-то «камеру-обскуру», потребную Пете для першпективных прожекций. Кроме того, памятуя об успехе нимфы, посоветовал сыну написать всех римских богинь, непременно в нагом или полунагом состоянии. Замысел был поднести сии художества лейб-метрессе, а уж она бы при случае сказала самому государю – вот, мол, майне либе, какой на Москве произрос талан.
Пока Петюша раздумывал, с какой из богинь начать, отец в нетерпении стал рыться в чулане, где валялись картины и рисунки прежних лет. Не сыщется ли ещё чего годного?
Тогда-то и свершился великий поворот, с которого, как прояснилось теперь, и взял своё начало орлиный взлёт к сияющему светилу. Воистину неисповедимы прихотливые извивы Судьбы!
* * *
Старые Петины работы пылились безо всякого бережения – составленные к стене, на полу, на лавках, в сундуках. Как раз в одном из сундуков, на самом дне, Автоном и наткнулся на рисунок, при виде которого пошатнулся. Потёр глаза – не сон ли, не наваждение?
На желтоватой странице скользящими линиями был набросан лик Спасителя. Огромные очи Сына Божия смотрели строго и соучастно. Всего один раз видел Зеркалов икону «Девятный Спас», наскоро и в полумраке, но ошибиться не мог: это был список с неё!
Остолбенев, он долго разглядывал изображение, никак не мог взять в толк, где и когда Петюша мог видеть святыню, которая безвозвратно пропала, унеся с собою все зеркаловские мечты.
Бросился к сыну. Тот посмотрел, пожал плечами. Не помнит!
Нарисовано было простым углем, а с учителями мальчик писал грифелем, позднее кистью. Это была первая подсказка. Вторую дал сам листок. Спас был нарисован на обороте страницы, вырванной из какой-то духовной книги. Этакого добра Автоном Львович у себя дома никогда не держал.
Сопоставив эти обстоятельства, опытный в сыскном ремесле гехаймрат со всей несомненностью вычислил: рисовано десять лет назад, когда они с маленьким, ещё недоумным Петей жили в Сагдееве. Значит, икона всё-таки там! И Петюша её видел!
От такого открытия несытое сердце Автонома Львовича, столько лет питавшееся жалкими крохами, расправило крылья, словно выпущенный из клетки орёл, и взмыло под облака.
Есть Икона, есть! Она где-то в Сагдееве! Глядишь, и бочонки с цехинами сыщутся, но золото – Бог с ним, лишь бы Девятный Спас отыскать!
Как только дозволила служба, Зеркалов повёз сына в поместье, куда давным-давно не наведывался, лишь осенью получал от управляющего выручку за урожай. Про свою воспитанницу, Софьину выблядку, Автоном Львович вспоминал редко и с неприятным чувством, как об осколке несбывшегося великого замысла, однако некое чутьё ему говорило, что эта карта разыграна ещё не до конца, что какую-то пользу из девчонки извлечь будет можно.
Поездка в Сагдеево поначалу разочаровала. Петюша, как ни старался, ничего об иконе вспомнить не мог. Зеркалов всюду его водил, во все закоулки заглядывал, и двор обошли, и село – сын лишь головой качал. С главным делом получилась неудача.
Кроме того, возникло нежданное осложнение с племянницей, которая за десять лет выросла в строптивую девку – вот она, Софьина кровь. Василиса безошибочным, прямо-таки сучьим нюхом нашла у Автонома самое уязвимое место, стала грозить жалобой Ромодановскому. Уж этого гехаймрату было совсем не нужно.
Князь-кесарь держал своего ближнего помощника на коротком поводе, не упускал случая лишний раз припугнуть или прижать. Никто на свете не понимал Зеркалова лучше, чем его суровый начальник. Оно и понятно: во многом они были между собой схожи. Я при князь Фёдоре, как Яшка при мне, – бывало думал Автоном Львович. Полезен, да не любезен.
Полное доверие Ромодановский начал выказывать гехаймрату, лишь когда обнаружил у того Ахиллову пяту – когда понял, чем Зеркалову легче всего дать острастку. Как-то раз, прищуря опухлые веки, кесарь обронил с показным добродушием: «Сын-то у тебя, Автономка, юнош хилый, болезненный. Я чай, если его Бог приберёт, ты с горя руки на себя наложишь? Эхе-хе, любовь родительская…» У Зеркалова сердце будто ледяной коркой покрылось. Понял он, что прозирает его многоумный правитель до самого донышка и предупреждает: гляди, мол, не то за тебя сын ответит.