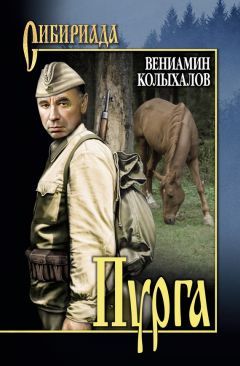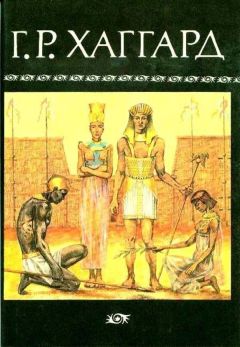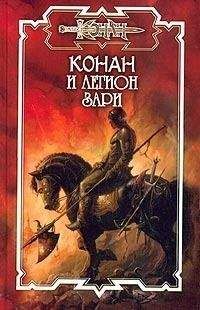— Возьми — дарю. Спички заменяет.
Работник отказался от дьявольской игрушки.
На зажигалке искусный гравер нанес аккуратной вязью необычный наказ. Дав перевести текст командиру роты, сносно говорящему по-немецки, хозяин трофея узнал суть надписи: Отто, подпали Сталину усы. Не удалось Отто воспользоваться огоньком чьего-то подарка. Лежал у лафета изуродованного взрывом орудия, вокруг валялись фотокарточки голых фрау и блестела среди пустых снарядных гильз эта зажигалка-сапог. Из безобразной раны на виске вражеского артиллериста толчками шла кровь, вздымались и лопались крупные багровые пузыри.
Пугающей могильной немотой веяло от продымленных стен укромной обители. Боец успел отвыкнуть от толстопузых книг, превосходящих давностью петровскую эпоху, от молельни, где каждая вышарканная половица лоснилась даже при сумеречном свете полуживых лампадок, от тесной галереи икон под высоким потолком из колотых прямослойных досок. Возвращение из ада войны не наполнило душу обновляющим светом, словно там истлел ненужным огнем последний фитилек. Пробковая затычка не могла заменить черепную кость и ткань головы: временами обрушивались давящие боли, просекающие все мозговые извилины, туманящие рассудок. Приходилось сдавливать виски, заглушать ладонями лязг и грохот в раненой голове. Война, страдания, госпиталь, мирская поучительная явь помаленьку отлучали от веры, от пользы молитв. Осподь все же незаметно терял владычество над телом и духом. Смутная заповедь: не убий — заволакивалась туманом отмщения и расправы над врагом. Онуфрий и не заметил, когда сгорел, развеялся прахом на полях сражений соломенный град надежд на упование всевышнего. Изнанка дичайшей войны научила иной заповеди: уповай на себя, на бегущих рядом друзей. Уповай на руки, держащие оружие, на ноги, переставляющие по беспощадным дорогам грузные от грязи сапоги.
Даже не поев с дороги, солдат завалился на ту кровать, где провел последние предсмертные дни старец Елиферий, и заснул глубоким, провальным сном.
Под старость лет Аггей поднаторел в нарымской бойкой словесности. Буквопись учил по ликбезу. Расписывался крупно: фамилия занимала бумажное пространство размером с гороховый стручок. Читал мычливо, медленно — такая тягомотина сердила старуху-спорщицу. Обида накапливалась в Аггее долго, как в бочке вода от сеногнойного дождика. Разрывалась бомба почти всегда от одного и того же запала. За обедом, чаще за ужином, хозяин, смочив языком деревянную ложку, бухал бабку по лбу и выносил давношнее обвинение:
— У-ух, стерва, как вспомню, что не девкой досталась — аппетит рушится.
— Дурень! — давала отпор жена, — нашел время память истязать. Хвачу поварешкой по плешивой башке — забудешь молодость.
— Нетушки, не забуду. С кем в овине щупалась, а-а?.. Молчишь. Нечем крыть.
Аггей садился на массивный, окованный по углам сундук. Раскрывал на заветной странице церковный устав Ярославов. Возглашал серьезным поповским голосом:
— Слушай, старуха, главу из строгого устава. Называется она «О блядни». Аще кум с кумою блуд творит — митрополиту двенадцать гривен… Аще жидовин или бесерменин будет с русскою — митрополиту пятьдесят гривен… Аще кто назовет чужу жену блядию, а будет боярская жена — пять гривен злата, аще отец с дщерью падется — митрополиту сорок гривен… Кто с животною блуд сотворит — двенадцать гривен…
— Бесстыдник! — ополчилась старуха. — Мусолишь одно и то же… Молись, что живу с тобой. Я вожусь, подштанники полощу… Возьми, дубина, прялку почини, чем язык чесать. Экая невидаль — не девкой ему досталась. Весь скус, когда лопнет мак, из головки семян натрясешь.
Медленно, деловито читал Аггей ценник взымаемых штрафов за разный блуд. Дочитав до конца, положил на нужной странице матерчатую закладку. Закрыл церковный устав, погладил кожаный золотистый переплет. Встав с сундука, почесав козлиную бородку, забазлал заливисто и самозабвенно: «Меня сватали за целку добрые родители. В эту целку входит церковь и попы-грабители».
— Мало тебя на делянах изводили. Еще одну крутую зиму надо напустить на мово паршивца.
— Погодь чуток. Скоро крутая смерть даванет — места мокрого не останется.
— Об одном прошу заступника: мне бы поперед тебя в землю уйти.
— Не он очередностью правит.
— Наказываю, старик: пусть цыганка Валерия не обмывает. Глаз у бабы дурной. И на мертвую порчу наведет.
— Болтай! Кума хоть и нерусь, но ты ее не забижай. В кузне кует — железо пищит.
— Вот-вот: бабское ли дело подковы, скобы гнуть? Нечистая сила подсобляет.
— Откуда в кузнице чистой силе взяться? Копоть, сажа, окалина. Пойду Панкратия проведаю — плох мужик.
В избе кузнеца гвалт, смех, дым коромыслом, хоть ведра вешай. В простенке висит керосиновая лампа, поливает горницу смурным, дрожащим светом. Сидят за столом в обнимку три фронтовика: цыган, однорукий Запрудин и Онуфрий. У староверца помимо прочих наград тускло поблескивает медаль «За отвагу». Хмельные мужики потягивают бражонку.
— Мы лесу мно-о-ого сокрушили! — гордится бригадир-стахановец. — На, цыган, мой кулак единственный. Попробуй, разожми… Валяй-валяй! Да ты не стесняйся, через колено ломай… Ага, пот прошиб.
— От ран слабота в руках.
— Теперь ты, Онуфрий — древняя душа. Жми!
Могутный староверец без натуги разжимает кулак Якова, сует в ладонь луковицу на закуску.
— Вот черт! — сокрушается Запрудин. — Вытекла сила на делянах.
Приходу Аггея рады. На лавке находится местечко возле хозяина. Кума Валерия, остячка Груня услужливо пододвигают капустку, картошку в мундирах. Ставят полнехонькую кружку процеженной бражки.
— Под ночь и на гульбу попал. Какой праздник седня?
— …Лесу-лесу скоолькоо сокрушили! — тянет знакомую арию Запрудин.
— Онуфрий по ранению вернулся, — дополняет хозяин. — Браток, покажи деду ямку… Во, видал какая дырень фрицем просверлена. Кость у тебя, божий человек, лосиная… иначе каюк.
Осоловелый староверец вертел в пальцах пробку со следом штопора. Рассказывал застольникам о первом согрешении на войне:
— Разлил старшина водку по братской норме, приказал: пей! Ослушником быть плохо. Зажмурился, выпил. Сгорчило во рту. Под пупом вскоре зажгло. В голове туманец пополз… Хорошо стало.
— Еще бы! — подзадоривал Панкратий. — Самый ажур после бутылки наступает. Ты и курить стал после фронта?
— Упаси, осподь. Табашную каторгу обошел.
— Заткни затылок — сквозняк в отдушину напустишь.
Онуфрий никак не мог попасть пробкой в пролом — тыкал в мочку уха. Внезапно, швырнув затычку в керосиновую лампу, вылез грузно из-за стола. Заграбастав растерянную приживалку Груню, закружился по горнице. Вскрикивал под топот и ладошечные хлопки: