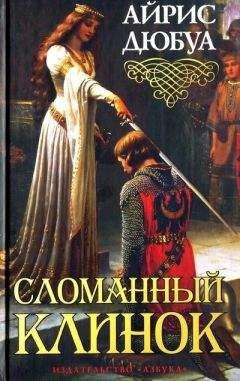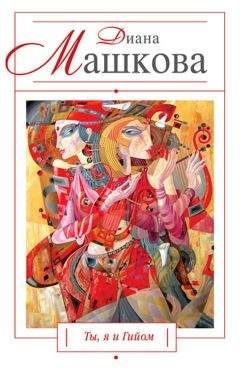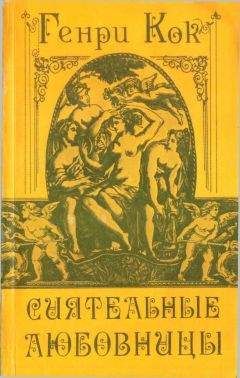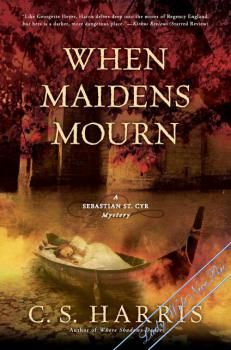Монастырь Святого Элуа располагался в Ситэ, на Бочарной улице. Робер хорошо знал это, потому что именно там стоял со своим отрядом в тот памятный февральский день, когда убили маршалов. Тем лучше, по пути и заглянет, все равно идти мимо.
Сейчас, проходя перед дворцом, он остановился и долго смотрел на громадные двери портала, через которые в то утро ломила разъяренная толпа. Он вспомнил дофина — тщедушного, насмерть перепуганного, в забрызганной кровью белой парче и шутовски нахлобученной набекрень красно-синей шляпе, кособоко съежившегося в громадном кресле с высокой резной спинкой. Какой ничтожной выглядела тогда королевская власть, униженная в лице ее наследника, какой полной казалась победа народа — и как скоро все вернулось к прежнему… Видно, и в самом деле не много стоят такие «победы», когда крикуны и зачинщики дорываются до власти, чтобы обделать свои дела, а расплачиваться приходится потом другим…
Теперь здесь тоже было многолюдно — громадный старый дворец уже при старом короле был частично отдан под разные судебные учреждения (здесь же помещался и парижский парламент), а регент и вовсе не захотел сюда возвращаться, поселившись в своем любимом Лувре. Робер уже отошел, когда его окликнули, — оказался мэтр Бертье, одетый легистом, в долгополой робе и даже с кожаным мешком, в каких носят документы.
— Робер, мальчик мой! — закричал тот обрадовано. — А мне господин Донати сказал, что тебя убили!
— Донати? — Робер задумался, прикусив губу. — Странно… он ведь говорил с Катрин…
— Она-то ему и сказала! Ну, благодарение Богу, видно, бестолковая девка что-то напутала…
«Ничего она не напутала, — подумал Робер, — тут что-то путает сам мессир Франсуа. Ведь, говоря с ней, он видел меня живым, хотя и в беспамятстве. Нет, это он придумал ради Аэлис. Но тогда… выходит, он все знает?»
— Говорят, если про кого облыжно скажут, что помер, то жить ему долго, — сказал он, шутливостью тона пытаясь скрыть вспыхнувшую снова тревогу. — А вы здесь что же, по его делам?
— Нет-нет, я теперь живу в Париже. Какие у него теперь дела? Они ведь в Италию уезжают — теперь-то уж уехали, наверное. Донати торопился, чтобы до осени, пока на море бури не начались, а то госпожа Аэлис боится.
— А-а-а. Так они вместе, значит?
— Да уж теперь, я думаю, после того, что случилось, он супругу ни на один день одну не оставит!
— Пожалуй, — согласился Робер. — Выходит, помирились? Зимой вроде они не ладили.
— Ну, без этого ни одна семья не обходится, все они так — нынче ссора, завтра опять любовь. Я не очень приглядывался, но он к госпоже такой заботливый…
— На кого же оставили Моранвиль?
— Его покупает сир де Луаньи. Крестьянам, пожалуй, это не очень-то будет по душе, да что делать.
— Пусть скажут спасибо, что не Бушар де Вандом.
— Бушара спалили в его собственном замке, ты разве не слыхал?
— Не слыхал, но рад, что услышал.
— Тсс! — Бертье приложил палец к губам, быстро оглянулся. — Мальчик мой, смута забыта и прощена — мы сейчас уже начинаем выдавать разрешительные грамоты[105] даже тем, кто ходил с жаками, — но говорить о ней одобрительно… Ты, кстати, чем теперь занимаешься? И что думаешь делать?
— Не знаю. — Робер пожал плечами. — Придумаю что-нибудь.
— Ты ведь грамотный, почему бы тебе не учиться? Я могу попросить, чтобы тебя взяли к нам — ну, для начала вроде младшим клерком, я буду с тобой заниматься…
— Куда это — к вам?
— Я работаю в конторе мэтра Пастуреля! — Нотарий уважительно понизил голос. — Он далеко пойдет, с ним сам регент то и дело советуется.
— Сам регент! — Робер усмехнулся. — Вы, помнится, не очень-то жаловали Валуа, мэтр Бертье, или я что-то путаю?
— Да-да, ты прав, мы во многом ошибались, — сокрушенно признал Филипп. — Что говорить обо мне! Донати человек сведущий в политике, и смотри как он ошибся в своем выборе — предоставил заем этому никчемному Наварре, теперь деньги наверняка пропали… А Карла Валуа многие тогда недооценивали, что верно, то верно. И еще верно другое — время еще не пришло для того, о чем мы мечтали. «Rex populi gratia»,[106] ха! Может быть, когда-нибудь… А пока надо выбирать из того, что есть. Марсель, между нами говоря, тоже оказался не…
— Ладно, чего о нем толковать, мертвых судить легче всего, прервал Робер. — Прощайте, мэтр Бертье, пойду я!
— Ты мне так и не ответил.
— Это насчет того, чтобы клерком? Нет, благодарю, я уж лучше рутьером стану…
После разговора с нотарием чувство тоски и одиночества, не покидавшее его все эти дни, вдруг нахлынуло на него с такой неожиданной силой, что он почти физически ощутил боль от страшного сознания своей ненужности в этом мире. Неужели потому, что услышал о ее примирении с мужем? Но ведь он только что молился о ее покое и утешении, так почему же не радуется теперь? Еще недавно боялся за нее, думая о том, что Донати может узнать все, не находил себе покоя, пока Като, добрая душа, не заверила его, что мессир Франсуа там, в лесу, расспрашивал лишь о здоровье госпожи (кстати, тоже соврала, теперь-то понятно, как и сам Донати соврал потом Аэлис, будто его убили), очень боялся, ведь ничего хорошего от итальянца он не ждал… так почему же не радуется теперь, когда понял, что тот все ей простил? «Госпожа Аэлис боится бури…» — сказал Филипп. Значит, и она примирилась со своей судьбой, иначе бы не боялась…
Горечь обиды подступила к самому сердцу — глупой обиды, Робер это понимал. Нет, он должен радоваться ее примирению с мужем, обязан радоваться, если по-настоящему любит ее… Однако представить себе Аэлис смирившейся, живущей какой-то своей, чужой ему, жизнью было трудно и больно… хотя так, наверное, и должно быть, женщины в таких вещах мудрее; возможно, она просто цепляется за любовь мужа, как за якорь спасения. И возможно, права…
Робер остановился, пытаясь сообразить, куда и зачем идет. Ах да… Но заходить к отцу Берсюиру расхотелось, зайти надо будет, только не сегодня; постояв, он пошел дальше, теперь уже не торопясь. А ему… Что делать ему? С собой, со своими воспоминаниями, с одиночеством. Ведь у него никого не осталось, кроме Като и Оливье. А если подумать, не столько даже Оливье — он хороший парень, и с ним занятно поговорить о его картинках, но… очень уж разная у них жизнь! Значит, остается одна Като. Вот она действительно за это время стала ему как родная — у них с ней даже воспоминания общие, недавно вдруг говорит: «А помнишь, как в Моранвиле лягушки во рву кричат, заслушаешься». Еще бы! Он ведь тоже помнит этот дружный лягушачий хор, ему он тоже вспоминается сладостно, как церковное пение… Но лучше не вспоминать, потому что тогда нынешнее одиночество становится непереносимым…