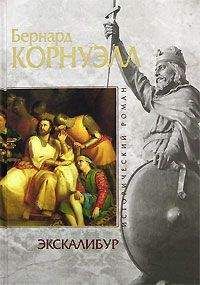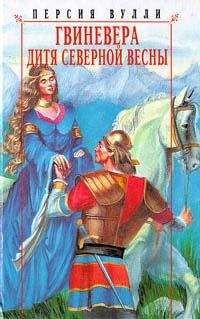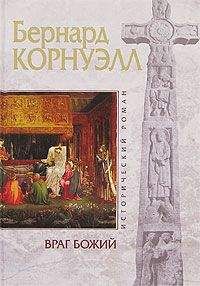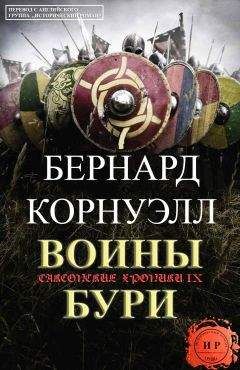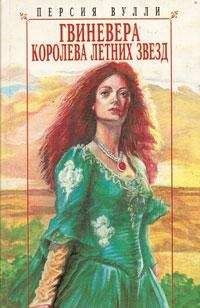— Так что у тебя за дело?
— О том услышит отец мой — от меня. Тебя оно не касается.
Воин обернулся и жестом поманил своих людей.
— Нас — касается.
— Твое имя? — резко осведомился я.
Он замялся было, затем решил, что, назвавшись, ничем особенно не рискует.
— Кеолвульф, сын Эадберта.
— Что ж, Кеолвульф, — промолвил я, — уж верно, мой отец вознаградит тебя, когда узнает, что ты задержал меня в пути? Чего ждешь ты от него? Золота? Или смерти?
Я, конечно, блефовал. И блеф сработал. Я понятия не имел, обнимет ли меня Элла или убьет, но Кеолвульф и впрямь страшился королевского гнева — страшился достаточно, чтобы неохотно позволить мне проехать и снабдить эскортом из четырех копейщиков. Они-то и стали моими проводниками в глубь Утраченных земель — все дальше и дальше.
Так ехал я через те края, куда на памяти вот уже целого поколения свободные бритты почитай что и не заглядывали. То было самое сердце враждебной страны: два дня провел я в дороге. На первый взгляд эта местность не слишком-то отличалась от бриттских земель, ибо саксы захватили наши поля и пашни и теперь возделывали их примерно так же, как прежде мы, хотя я отметил, что их скирды сена будут повыше наших и поквадратнее, а дома — покрепче, понадежнее. Римские виллы стояли по большей части заброшенными, хотя тут и там попадались и жилые усадьбы. Христианских церквей не встречалось — собственно говоря, вообще никаких святилищ я не увидел; разве что один-единственный раз попался по дороге бриттский идол, и тут же были оставлены мелкие подношения. Бритты здесь все еще жили, а некоторые даже владели землей; большинство, однако, составляли рабы либо жены саксов. Все здесь переименовали: мои сопровождающие знать не знали, как эти места назывались во времена бриттов. Мы проехали Личворд и Стеортфорд, затем Леодасхам и Келмересфорт: слова — непривычные, саксонские, а деревни между тем процветали. То были не дома и дворы захватчиков и чужаков, нет — то были поселения оседлого народа. От Келмересфорта мы повернули на юг через Беадеван и Викфорд. По пути мои спутники гордо рассказывали мне, что вот эти самые пахотные земли Кердик вернул Элле давешним летом. Этой землей и была куплена верность Эллы в грядущей войне, в ходе которой этот народ пройдет через всю Британию до Западного моря. Мой эскорт нимало не сомневался: саксы победят. Все они слыхали, насколько ослабил Думнонию бунт Ланселота: мятеж-то и подтолкнул саксонских королей к мысли объединиться и захватить всю южную Британию.
Зимовал Элла в местечке, что саксы называли Тунресли. Над глинистыми полями и темными болотами воздвигся холм; с его плоской вершины, если глядеть на юг, за широкую Темзу, глаз различал вдалеке туманные угодья Кердика. На холме высился внушительный чертог: массивное строение из темного дуба. Высокую и крутую щипцовую крышу венчал символ Эллы — выкрашенный кровью бычий череп. Одинокий чертог черной громадой маячил в сумерках — недоброе место, зловещее. Чуть к востоку под кронами деревьев притаилась деревушка: там мерцали мириады костров. Похоже, я прибыл в Тунресли в пору большого сбора: костры обозначали место, где гости встали лагерем.
— Пируют, — сообщил один из моих спутников.
— Пир в честь богов? — полюбопытствовал я.
— В честь Кердика. Он приехал потолковать с нашим королем.
Мои надежды, и без того невеликие, развеялись по ветру. С Эллой у меня еще был какой-никакой шанс уцелеть, но с Кердиком — ни тени шанса. Кердик холоден и жесток, а вот Элла способен на сильные переживания и по-своему даже великодушен.
Я тронул рукоять Хьюэлбейна и подумал о Кайнвин. Попросил богов — хоть бы мне снова ее увидеть. А между тем мы уже приехали: я соскользнул с усталого коня, расправил плащ, снял щит с луки седла и отправился объясняться с врагами.
Здесь, на промозглой вершине холма, в высоком и длинном чертоге, на устланном тростником полу пировали, должно быть, сотни три воинов. Три сотни громогласных весельчаков, бородатых и краснолицых: эти, в отличие от нас, бриттов, не видели вреда в том, чтобы заявиться в господский пиршественный зал с оружием. В центре пылало три здоровенных костра, а дым нависал так густо, что поначалу я не мог рассмотреть тех, кто сидел за длинным столом в дальнем конце зала. Никто не обратил на меня внимания — ну да при моих-то длинных и светлых волосах и густой бороде я вполне смахивал на саксонского копейщика. Но вот меня провели мимо ревущих костров, какой-то воин разглядел пятиконечную белую звезду на моем щите — и вспомнил знак, с которым сталкивался в битве. В гомон голосов и смеха вплелся глухой рык. Рев распространялся по залу, набирал силу, и вот уже все до одного саксы вопили и выли, а я шел вперед, к почетному столу на возвышении. Орущие воины отставили рога с элем и принялись колотить кулаками по полу или по щитам. Высокая кровля загудела от грозного ритма: в нем звучала сама смерть.
Клинок с грохотом ударился о стол — и шум разом смолк. Это Элла поднялся на ноги — это его меч рубанул по длинному неструганому столу так, что во все стороны полетели щепки. Там, на возвышении, за горой блюд и налитых до края рогов пировали с дюжину воинов. Рядом с Эллой восседал Кердик, а с другой стороны от Кердика — Ланселот. И Ланселот был здесь отнюдь не единственным бриттом. Тут же сгорбился его кузен Борс, а в конце стола пристроились Амхар с Лохольтом, Артуровы сыновья; все — мои заклятые враги. Я тронул рукоять Хьюэлбейна и помолился о хорошей смерти.
Элла неотрывно глядел на меня. Он отлично меня знал — но вот известно ли ему, что я его сын? Ланселот при виде меня явно опешил: залился краской, знаком подозвал толмача, коротко переговорил с ним, и тот наклонился к Кердику и зашептал что-то в монаршье ухо. Кердик тоже меня знал, однако непроницаемое выражение его лица нимало не изменилось: ни при словах Ланселота, ни при виде врага. То было лицо писца — чисто выбритое, с узким подбородком, с широким, высоким лбом. Губы — тонкие, жидкие волосы гладко зачесаны назад и собраны в пучок на затылке; ничем не примечательное лицо — если бы не глаза. Светлые, безжалостные — глаза убийцы.
Элла от изумления словно дар речи утратил. Он был куда старше Кердика, ему уже перевалило за пятьдесят — год, а то и два назад; по любому счету — старик, однако он до сих пор выглядел куда как внушительно. Статный, широкогрудый, лицо гладкое, суровое, нос перебит, щеки в шрамах и черная борода лопатой. На нем было роскошное алое платье и массивная золотая гривна на шее; золото блестело и на запястьях, но никакие украшения не могли скрыть того факта, что Элла в первую очередь солдат — саксонский воин, матерый медведище. На его правой руке недоставало двух пальцев — верно, в какой-нибудь давней битве оттяпали, и отомстил он, надо думать, прежестоко. Наконец Элла нарушил молчание.