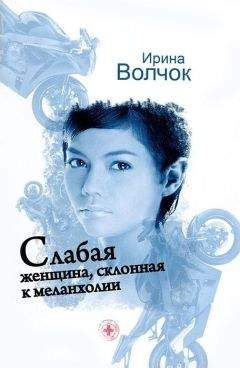Дозволения сего Зорич дождался только осенью 1778 года, когда во дворце и в сердце Екатерины поселился другой…
Забавно иногда шутит судьба! Отправляясь вон из своих обжитых апартаментов, не вполне пришедший в себя от внезапности отставки, Зорич подметил ухмылочку на лице статс-дамы графини Брюс. Он и прежде подозревал, что особа сия к нему не шибко расположена, а потому без труда разглядел в ее ухмылочке нескрываемое злорадство. И вызверился:
— Не лыбься, Парашка! Недолго тебе осталось! Скоро и ты отсюда выкатишься, поверь мне!
…Говорили, будто Зорич не то серб, не то цыган? Пожалуй, среди его бабок-прабабок и впрямь была гадалка-цыганка, потому что он обошел на вороных «сивиллу» Прасковью! Пророчество его, безусловно, сбылось, правда, не так уж скоро, а через три года, однако все же сбылось.
Смешнее всего, что графиня Брюс сама себе выкопала яму… но не будем забегать вперед.
Итак, на дворе декабрь 1777 года, Зорич вышиблен вон, Екатерина скучает, злится, томится и готова отдаться первому встречному.
Допустить сего было никак нельзя, и все значительные лица наперебой поспешили представить своего кандидата на занимание приятной и ответственной должности. Пытались подсунуть Екатерине полицмейстера Архарова, но дело не сладилось по взаимной несклонности. И вот на «вакантную должность» были выдвинуты трое: двадцатичетырехлетний кирасирский поручик Иван Римский-Корсаков, немец Бергман и побочный сын графа Воронцова — красавчик Ронцов. То есть красавчиками были все трое, и все трое стояли в один прекрасный день в приемной Екатерины — разряженные, с роскошными букетами в руках. Букеты якобы предназначались светлейшему, и вся проблема была лишь в том, чтобы выбрать курьера посимпатичней.
Молодые люди переминались с ноги на ногу, не зная, куда деваться от волнения. И вот появилась Екатерина — как всегда, в сопровождении графини Брюс. Сорокавосьмилетние любительницы наслаждений с любопытством оглядывали выставку красавцев и порою хихикали, как юные девы… впрочем, таковыми они и оставались в сердцах своих!
Императрица очень любезно побеседовала сначала с Бергманом, потом с Ронцовым — и наконец приблизилась к тому, с кого уже давно не сводила глаз Прасковья Брюс.
При виде черноволосого, черноглазого, белолицего юноши что-то произошло с мозолистым сердцем этой опытной любодейки. Ей почудилось, будто стоит она перед прекрасным цветком и хочет вдохнуть весь его аромат, весь, без остатка, чтобы никто больше не мог им насладиться…
Впервые на ее лице, к которому, чудилось, прочно, неснимаемо прилипла маска с насмешливым, даже скучающим, пресыщенным выражением, появилась растерянность — особенно когда ее глаза встретились с глазами Ивана Римского-Корсакова, и Прасковья увидела, как смотрят на нее эти невероятные, колдовские глаза. У юноши был вид, словно он набрел на сокровище, которое искал всю жизнь!
Но мгновенная судорога боли промелькнула на лице Прасковьи, когда к Римскому-Корсакову подошла Екатерина, и он обратил на нее свои черные, завораживающие очи все с тем же выражением…
Прасковье вдруг захотелось броситься вон, скрыться где-нибудь в закоулках дворца, выплакать боль, которая переполнила ее сердце лишь оттого, что этот красивый мальчик (в два раза моложе ее!) смотрит на другую женщину совершенно так же, как только что смотрел на нее! Она уже подхватила юбки, чтобы повернуться — и бежать прочь… однако вовремя вспомнила, кто она, где находится, кто этот мальчишка и кто та женщина, на которую устремлен его волнующий взор. И сердце Прасковьи Брюс вновь оделось теми же непроницаемыми доспехами, в кои оно было облачено прежде, и она только одобрительно кивнула, когда императрица после нескольких реплик, которыми она обменялась с Римским-Корсаковым, именно его отправила с букетом к Потемкину.
Фактически это означало смотрины фаворита временного у фаворита главного.
Потемкин был поражен красотой юноши, однако проницательным взглядом своим понял, что этот ему не соперник, он только и способен, что исправно делать свое постельное дело, а умом не блещет, и, стало быть, императрице будет игрушкою, а не милым другом. И он с легкой душой дал знать Прасковье, что можно приступать к интимной проверке Ивана Николаевича Римского-Корсакова.
Тем же днем лейб-медик Роджерсон провел необходимое освидетельствование, и той же ночью Прасковья Александровна, раздушенная и прибранная, словно невеста, впервые восходящая на брачное ложе, заключила прекрасного юношу в свои объятия и прижала наконец-то к сердцу, в котором как расцвел некий цветок, так вроде бы и не собирался отцветать. И всю ночь пребывала графиня Брюс наверху незнаемого прежде блаженства, то терзая, то нежа, то муча, то лаская бесподобную красоту, и ладони ее горели, когда касались плеч и бедер ее временного — временного! — любовника.
А поутру, когда Иван ушел, графине потребовалась вся ее обретенная в житейских битвах стойкость, чтобы не умереть от горя при одной только мысли о том, что никогда, никогда, больше ни-ког-да ей не удастся поцеловать эти изящно вырезанные губы, никогда не доведется видеть любовный пламень в этих глазах.
Предстоящего разговора о Римском-Корсакове она боялась, очень боялась — ведь Като была проницательна и старинную подругу свою насквозь видела. И вот женщины встретились для подробного обсуждения всех статей и способностей будущего фаворита. Чтобы императрица не заметила горестного дрожания губ и печали в глазах, Прасковья первой начала разговор (нападение всегда было лучшим способом обороны!):
— Премилый мальчонка, пре-ми-лый, это я тебе, Като, точно говорю, как перед Господом Богом клянусь. Ты не ошиблась, Като, нет, ты не ошиблась, у тебя воистину глаз-алмаз, все насквозь, даже через лосины видит.
Вот таким был разговор двух подруг — и теперь вполне можно понять все оттенки его, почувствовать за сладкими похвалами боль и горечь Прасковьи, из рук которой уходил столь полюбившийся ее сердцу юноша.
— Ну, даже через лосины в размере-то ошибиться мудрено… — усмехнулась Екатерина. — Но не токмо ж в одном размере дело! А вот скажи, любезен ли он? Чист ли? Затейлив ли?
— Любезен, говорю же: премилый мальчонка, — воодушевленно сообщила Прасковья. — Ласковенький! И чистехонек, беленький, нежненький, так и съела бы! — Она засмеялась, чтобы подавить рвущийся из горла всхлип. — А что до затейливости… покуда более старателен, нежели затейлив. Но переимчив, толк с него будет при должной науке. Я ему для начала кой-чего показала… так, пустячки пустяковенькие… и скажу тебе, с большой охотою перенял. Перенял, и повторил, и так в раж вошел… удержу потом не было!