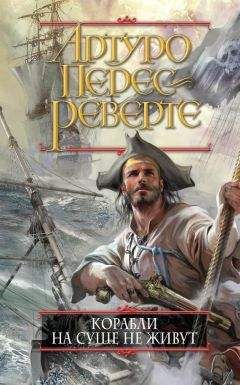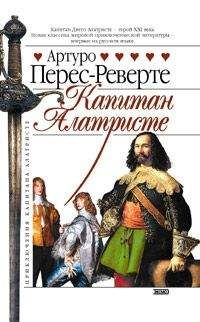К этому следует присовокупить, что мы занимали оборону по берегам Остерского канала, то есть на самом острие возможной атаки: известно было, что голландский генерал Мориц Оранский ведет войско на выручку осажденной Бреде, где сидел другой Нассау, Юстин, с сорока шестью ротами голландцев, англичан и французов – сии последние, как вы, вероятно, знаете, никогда не упускали случая нагадить нам, где можно. Армия его католического величества находилась в двенадцати часах марша от ближайших городов, сохранивших верность Филиппу Четвертому, тогда как голландцы – всего в трех-четырех от своих. И Картахенскому полку приказано было принять этот более чем вероятный удар на себя, не дав еретикам зайти в тыл к нашим, сидевшим в траншеях вокруг Бреды. Случись такое, испанцам пришлось бы с позором отступить или принять неравный бой. Ну вот, и дабы не застали их врасплох, сколько-то там взводов – и наш в том числе – выдвинули на это опасное направление, в полевые караулы: при появлении неприятеля им надлежало поднять тревогу, а шансы выжить у них были очень невелики, отчего их так и называли – «пропалые ребята». Выбрали для сего благородного, но погибельного дела роту капитана Брагадо, где люди подобрались тертые, обстрелянные, привычные к превратностям военного счастия и – самое главное – умеющие, зубами и когтями вцепясь в какой-нибудь клочок земли, держаться до последнего, даже оставшись без командиров. Вышло, однако, иначе: чересчур уж доверились наши начальники долготерпению испанских солдат. Впрочем, добавлю справедливости ради, что полковник наш, дон Педро де ла Амба, известный под кличкой «Петлеплёт», сам подлил масла в разгорающийся огонь мятежа, ибо людям его чина и происхождения так себя вести не пристало.
Как сейчас помню: в тот прискорбный день выглянуло ненадолго солнышко, и, хоть грело оно по-голландски, я наслаждался теплом, пристроясь на лавке у дверей и читая с большой для себя пользой и удовольствием книгу, которую дал мне капитан Алатристе, чтобы я в походе не позабыл грамоту. Этот ветхий, покоробившийся от сырости том – первое издание первой части «Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского», увидевшее свет в типографии Хуана де ла Куэсты в пятом году нового века, то есть всего за шесть лет до того, как подобное же отрадное событие случилось со мной, – чудесное творение славного дона Мигеля де Сервантеса, который и дарованием своим, и злосчастьями был истый испанец: родись он англичанином или французом, иначе сложилась бы его судьба, и слава нашла бы его при жизни, а не за гробом, однако принадлежал этот однорукий гений к окаянной нации, умеющей воздавать лучшим своим сынам лишь посмертные почести – и это еще в лучшем случае. Итак, я упивался приключениями и возвышенным безумием последнего из странствующих рыцарей, и душу мне грело сокровенное знание, коим поделился со мной Диего Алатристе: в тот день, каких немного выпадает в череде столетий, – когда испанские галеры сцепились в проливе Лепанто с громадным турецким флотом, – среди тех, кто сражался с оружием в руках за Испанию, Бога и короля, был и дон Мигель, простой и верный присяге солдат – такой, как Диего Алатристе и мой отец; такой, каким твердо намерен был стать я сам.
А покуда я грелся на солнце и читал «Дон Кихота», время от времени останавливаясь, чтобы прочувствовать и уразуметь мудрые мысли, коими изобилует бессмертный роман. Вы, господа, наверно, помните, что и у меня была собственная Дульсинея, однако любовные мои горести проистекали не от того, что избранница моя мною пренебрегла, а от того, что оказалась коварна: повествуя о прошлых моих приключениях, я уже упоминал об этом. И хотя, попав в сей сладостный капкан, чудом не потерял я честь и самую жизнь, – воспоминание о некоем проклятом талисмане жгло меня огнем, – не сумел я позабыть ни золотистые локоны, ни синие, как мадридские небеса, глаза, ни улыбку, схожую, надо думать, с той, что играла на устах у сатаны, когда при Евином посредстве угощал он Адама пресловутым яблочком. Предмету моей страсти было, вероятно, теперь лет тринадцать-четырнадцать, и, воображая Анхелику при дворе, в окружении пажей и юных расфранченных кавалеров, впервые ощутил я, как вонзается мне в душу черная шпора ревности. Ничто на свете – ни все сильнее бурлящая в жилах младая кровь, ни каждодневные опасности, ни следовавшие за войском маркитантки, ни местные красотки, которым, поверьте, испанцы не были столь ненавистны и противны, как их мужьям, братьям и отцам, – не могло вытравить из моей памяти образ Анхелики де Алькесар.
В этот миг шум и суета отвлекли меня от чтения. Мимо шли солдаты, торопясь к месту сбора – на гласис [11] у Аудкерка, недавно взятого нами. В этом городке, расположенном к северо-западу от Бреды, стоял наш гарнизон. Подхватив аркебузы Алатристе и Мендьеты, туго набитый ранец из телячьей кожи и еще несколько пороховниц, я поравнялся с Хайме Корреасом, нагруженным, как вьючный мул, двумя короткими пиками, медным шлемом, весившим, наверно, фунтов двадцать, да еще мушкетом, и по дороге – до Аудкерка было не менее мили – узнал предысторию от товарища своего, служившего во взводе прапорщика Кото. Оказалось, что накануне вечером начальство, крайне раздосадованное сквернейшим состоянием дисциплины, назначило на сегодня строевой смотр и вот по какому поводу.
Возникла надобность укрепить Аудкерк, и сие ответственное фортификационное поручение попытались возложить на солдат, посулив им за это денег, которые ввиду чудовищной дороговизны съестных припасов и задержки жалованья пришлись бы очень кстати. И кое-кто из наших согласился на такой приработок, однако многие возмутились и вполне резонно заявили: если деньги есть, пусть начальство сперва выдаст что положено, разочтется с долгами, а уж потом прельщает дополнительной оплатой, и вообще почему это надо – в буквальном смысле – землю рыть, чтобы получить причитающееся солдату по закону и справедливости, и почему за свои кровные он еще должен махать лопатой да таскать фашины, приводя в божеский вид всяческие люнеты и апроши?! Нет уж, лучше потуже затянуть ремешок, нежели кормиться таким недостойным манером, когда, можно сказать, лбами сталкиваются голод и честь, ибо истый дворянин – а других в солдаты не брали – лучше подохнет, не уронив достоинства, чем сохранит жизнь посредством кирки и лопаты. Тут возникла перепалка, произошел обмен резкими словами, и в пылу спора какой-то сержант нанес оскорбление действием аркебузиру из роты капитана Торральбы; аркебузир же не унялся, а совсем наоборот – вдвоем еще с одним солдатом накинулся на сержанта, хоть у того в руках была алебарда как знак его звания, и пырнул его несколько раз шпагой, лишь по счастливой случайности не отправив в царствие небесное. Теперь виновных ожидало примерное наказание, и полковник приказал, чтобы все, свободные от караулов, при сем присутствовали.