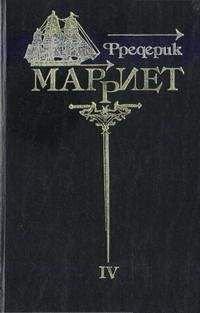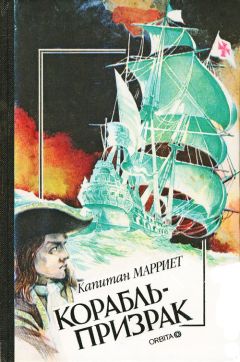Он тотчас поднял одну руку; в другой был нож. Югурта поднес его к толстым губам своим и поцеловал, как будто хотел приласкать оружие, посвященное мщению.
— Бедный Югурта! — вскричал я в отчаянии. — Когда же это случилось?.. Где?.. Почему?… И кто этот Мантес?.. Не совершил ли он еще каких преступлений?
Но негр не мог отвечать мне. Между тем капитан вернулся на палубу, и я поспешил уйти, шепнув своему несчастному другу:
— Будь осторожен. Небо не оставит злодея без наказания.
Я пошел к дамам и спросил, не хотят ли они посмотреть, как станут поднимать якорь. Мы все разместись па юте, то есть на возвышенной части кормы, где была устроена особенная каюта, занимаемая капитаном. Дон Мантес с зрительной трубой в руках спешно окинул взглядом весь корабль, море и зрителей, собравшихся на барселонской крепости.
— К шпилю! — скомандовал он потом, и десятка четыре оборванных негодяев бросились в беспорядке кто туда, кто сюда. Такое начало не предвещало ничего доброго, однако мы ждали, что будет дальше. Мало-помалу некоторые из матросов успели обнести вокруг шпиля толстый канат, другой конец которого был прикреплен к канату, державшему якорь. Теперь следовало вертеть шпиль, чтобы он, навивая на себя первый канат, таким образом поднял якорь. Верхушка шпиля с рычагами для верченья выходила на верхнюю палубу, так что мы, стоя на юте, могли очень хорошо видеть весь маневр. Дон Мантес подал знак: началась работа; якорь тронулся. Но между тем подул довольно свежий ветерок, море заволновалось, корабль закачался, пошел, и движение шпиля с каждой минутой становилось труднее. Напрасно капитан ободрял матросов: каждый из них тоже хотел приказывать, а никто не слушался. Однако кое-как якорь был вытащен: оставалось только закрепить его на борту корабля, как обыкновенно водится.
— Что ты скажешь об этом маневре? — спросил у меня батюшка.
— Дай Бог, чтоб нам никогда не приходилось делать маневров, — отвечал я.
— Тише, Ардент! Не перепугай дам. Но что же, разве этот маневр сделан худо?
— Как нельзя хуже.
— По крайней мере мы, кажется, не можем винить капитана. Он показал примерную деятельность, кричал, бегал… Взгляни на бедняжку, как он измучился.
В это время дон Мантес взошел на ют с важным и самодовольным видом человека, который ожидает благодарности за свою ловкость.
— Есть еще кое-что, мешающее нам благодарить капитана, — шепнул я батюшке по-английски.
— Послушайте, любезный дон Мантес, — сказал он, — отчего вы не велите убрать рычаги, что торчат в шпиле?
— Сейчас, — отвечал тот и спустился опять на палубу. Но в ту самую минуту что-то тяжелое вдруг бухнуло в воду, и на палубе поднялись крик и суматоха. Дело в том, что по беспечности капитана и неопытности матросов забыли закрепить шпиль и тем удержать якорь в одном положении; шпиль повернулся, якорь упал, и так как корабль был на ходу, то канат, свиваясь со шпиля, стал поворачивать его с такою силою, что несколько матросов и сам капитан, сбитые с ног рычагами, полетели в разные стороны, как щепки, — кто с разбитой головой, кто с переломанной рукой.
Дамы побледнели, думая, что все погибло, что мы тонем. Между тем ругательства и стоны на палубе превратились в какой-то оглушительный гул. Никто не смел тронуться с места: матросы, бывшие вдали от шпиля, стояли в оцепенении, с разинутыми ртами и выпученными глазами. Но вот канат свился весь; судно дрогнуло, остановилось, и все, кто не приготовился к толчку, попадали друг на друга. К довершению неприятностей это происходило в виду какого-то английского корвета. Капитан его, красноносый и рыжий моряк, выставил через борт свою моржовую харю и закричал нам в рупор:
— Эй, вы, мореходы-пресноводы! Что вы за дьявольщину городите? Или у вас нет ни одного живого человека?
Я взглянул на стоявшего подле меня Югурту. Он был весел и корчил престранные гримасы, которыми выражалось у него удовольствие. Признаюсь, мне и самому было не неприятно видеть такое унижение Мантеса; но насмешка проклятого англичанина задела меня за живое.
— Югурта, — сказал я, — перестань гримасничать. Покажем этим оборванцам, что между нами есть люди, которые смыслят в деле!
С этими словами я бросился навстречу дону Мантесу, который, прихрамывая, выходил на ют. Я вырвал у него рупор, стал в позицию и закричал:
— Смирно! — Это громкое, повелительное восклицание произвело эффект, какого я и сам не ожидал: все притихли, устремив на меня внимание. — Югурта, — сказал я, — возьми линек и ступай, смотри, чтобы исполнялось в точности все, что я буду приказывать.
В несколько минут корабль был приведен в порядок. Якорь вытащен, паруса распущены, все снасти закреплены, палубы очищены, и мы плыли, как будто с нами ничего не случалось. Тогда я возвратил дону Мантесу его рупор. Он пробормотал несколько слов, в которых я ничего не расслышал, кроме одного слова «бунт».
— Друг мой! — сказал мне батюшка, пожимая мою руку.
— Да благословит тебя Бог! — прибавила матушка.
— Братец, — прошептала Гонория, робко потупив глаза, — как я люблю тебя!
Дон Юлиан и его сестра также подошли ко мне с изъявлением благодарности. Я был счастлив, до крайности счастлив; но более всего осчастливили меня ласковые слова Гонории. Когда мы с ней остались одни, она взяла мою руку и с видом нежного упрека сказала:
— За что ты ко мне так холоден? Чем я виновата перед тобой? Почему ты не любишь меня так же, как я тебя люблю?
Кровь ударила мне в голову, сердце стеснилось. — Гонория! — вскричал я без памяти… но вдруг опомнился. — Гонория! — продолжал я тише. — Я любил тебя, прежде чем узнал; только… ах, Гонория! Судьба сыграла со мной жестокую шутку, и бывают минуты, когда я теряю разум.
На лице сестры моей выразилось нежное сострадание; она хотела что-то сказать, но нас позвали к батюшке, и опасный разговор, к счастью, прервался.
Более месяца на корабле «Санта-Анна» не случалось ничего достойного замечания. Экипаж, набранный из всякого сброда, стал понемножку сдруживаться, привыкать к делу, знакомиться со своими обязанностями. Дон Мантес обращался с нами вежливо, мы с ним делались день ото для холоднее, Гонория начинала чувствовать к нему отвращение. Это последнее обстоятельство сперва очень огорчало моих родителей, особенно батюшку, который не любил изменять данному слову; но дон Мантес сам чуждался нашего общества и таким образом приучил моего отца к мысли о разрыве предполагаемого союза.
Что касается меня, то я — слава Богу! — стал немножко спокойнее; мир начинал водворяться в душе моей, воображение не бунтовало, как прежде, ум прояснялся, угрызения совести прекращались; я привыкал любить Гонорию, как сестру, без всякого другого помысла, и если иногда вспоминал о встрече на хорах барселонской церкви, то мне казалось, что там была какая-то другая девушка, не Гонория, не сестра моя.