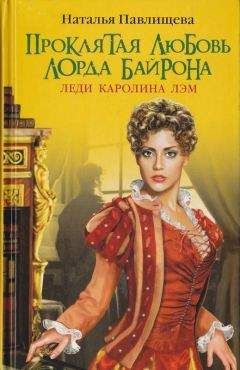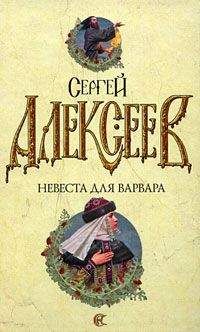Варвара Михайловна сидела у зеркала, не в силах отвести взгляда от открывающегося ей уродства.
И вдруг зеркало затуманилось, а затем в тот же миг прояснилось, и на нее глянули ненавистно-знакомые, магически притягательные золотые глаза.
– Ты думала погубить меня? Глупая… Ты погубила не меня, Тьма надолго опустится на близких твоих, затопит ложью и клеветой ненавистников дом Князя, пожрет забвением и обманом…
Варвара Михайловна взвизгнула, нервно обернулась. Ужас сковал ее – в светелке стояла белая волчица. Как предвестница надвигающегося несчастья.
Сухоруков жадно вслушивался в слова «Протокола Верховного Тайного Совета по делу князя А. Д. Меншикова», писанного четвертого апреля тысяча семьсот двадцать восьмого года.
– «Варвару Арсеньеву послать в Белозерский уезд в Горский девичь монастырь и тамо ее постричь при унтер-офицере, который ее повезет в тот монастырь; … и велеть ей тамо потому ж быть неисходной. И игуменье смотреть над нею, чтоб никто ни к ней, ни от нее не ходил, и писем она не писала».
Анатолий Лукич не жалел о потере «любезной своей горбушки» – чего жалеть о бабах-то! И дату сего «Протокола», подтверждающего окончательное падение Князя, считал знаковой. Завтра, пятого апреля, день рождения Белой Волчицы, вновь ускользнувшей из его рук. Вот ведь досада – даже смерть была на ее стороне, помогла ей уйти. Ну, да ничего, он терпеливый.
«… Мы же поступаем лучше, чем упиваться вином, мы ежедневно купаемся в крови».
Из переписки Петра I с князъ-кесарем Ромодановским.
Лето 1733 года
Закончились, наконец, строительные работы в Петропавловском соборе, и придворных ждала церемония погребения умершего Императора да тела пресветлой супруги его. Покрыли уж гробницы золотой тканью с бахромой, а Сашенька, стоявший в толпе придворных, все размышлял напряженно, глядя на гробницу Ее.
«Господи, ты забираешь в свои чертоги столь молодых годами. И хороших. Я помню, Она была добрая. Может, становятся такие ангелами силы твоей, а потом живут среди людей, помогают им, многогрешным, защищают и оберегают, как могут? Верую я, Господи, любой ангел-хранитель был когда-то хорошим человеком. Таким, как Она. Но почему, почему же так тяжко и больно видеть эту украшенную златом гробницу?»
Сашенька помотал головой, стараясь избавиться от назойливо-крамольных мыслей. Покосился на новую государыню и невольно поморщился. Хоть и вернула их Ивановна с сестрицей из пустынь ссылки, хоть и выдала сестру Саньку замуж за брата фаворита своего, да его самого одолжила местом штабс-капитана гвардии, сердце к ней не лежало, – уж больно страшна и опасна казалась. С непривычки и затрепетать в ужасе можно.
Голос архиепископа Новгородского взвился к куполу собора столь торжественно, столь напомнил Феофан юному князюшке огромную, черную мышь летучую с ликом злобно искаженным, когда бьются твари сии по ночам в ставни закрытые, что Сашенька чуть не опозорился всенародно – не омочил штаны шелковые. И не от смеха.
Сашенька уж умаялся сохранять лицо, подобающе скорбное. (В голове-то билась мыслишка подлая: «мертва Она, да счастлива», ибо все покинувшие его в земной юдоли казались ему наисчастливейшими.) И все ради того, чтобы снискать благорасположение юной Лизоньки Голицыной, изредка бросающей на него испытующий взгляд. Вероятно, девица думала, что в полумраке собора взоры ее незаметны.
И Сашенька старался казаться изо всех сил.
Проблема была не в нем. Проблемой была сама церемония горького торжества Смерти над Жизнью. Она доставляла ему непритворную, настоящую скорбь. А посему так утомляла юного князюшку акробатика лица и словес вице-президента Синода.
Пора бы тому и закругляться с речами, на много лет запоздалыми.
Кроме того, – в сем Сашенька мог признаться лишь самому себе, – он не должен был пить то проклятое пиво в австерии.
Утром юный князь Александр Александрович встал необычайно рано – еще шести не было, время, кое полагал он нездоровым для силы телесной. Причем поднялся ни свет, ни заря не по своей волюшке, пробудила его тихая какая-то дурнота, что ворвалась в организм его и упрямо мучила весь день напролет. Да и не дурнота то была – пора бы уж признаться, – а… нездоровье злое. Сашенька даже думал передать записочку сестрице-фрейлине с отказом от посещения церемонии погребения Государей. Ну, не готов был Александр Александрович к встрече с инфантильным муженьком сестрички Густавом, подполковником Измайловского лейб-гвардейского полка. Пусть тот и в обращении весьма вежлив и желает для всех быть приятен, но ума-то в нем мало, в отличие от сановного родственника.
Но сестренка заранее готовилась к церемонии, если он откажется присоединиться к ним – вряд ли Санька поймет его.
Да еще это проклятое трижды пиво! Ко всем чертям, ну не должен он был к нему прикасаться! Тем более что и не любил-то пиво никогда.
Сашенька мгновение долгое прислушивался к себе и решил, что минут десять еще так и быть потерпит, а потом торопливо дернул за обшлаг мундира шурина.
– Что? – Густав на секунду действительно испугался, а затем уж только рассердился.
– Бирон, пропусти, – горячо зашептал Сашенька с извинительными ужимками. – Дай пройти, я вскорости вернусь.
– Приспичило? – Густав убрал руку с плеча жены. – Неужто это столь срочно?
– Шутишь? – вздохнул юный князь и страдальчески завел глаза к куполу собора. – Срочнее не бывает.
– Нельзя ли потише, сударь вы мой? – веер очаровательной Голицыной возмущенно затрепетал.
Густав с шутливым видом поклонился.
– Ах, княжна, простите великодушно моего юного друга, у него слабый мочевой пузырь.
Князь зыркнул на Бирона и стал проталкиваться к выходу. О, боги, как же сильно его качает-то, и это после одной кружки пива!
Сегодня явно не его день. Сашенька боролся с ветром, незримым для сторонних наблюдателей, но чертовски опасным для него. А еще эта черная дурнота, что накатывает на него волнами, хоть бы никто не заметил его спотыкающуюся, позорную неловкость.
Как же, не заметят. Юный князь с несчастнейшей гримасой на лице поймал взгляд красавицы, стоявшей у самого входа в собор. Молода, отметил он про себя, и хороша. Впрочем, особенно-то и не разглядишь, эвон как в фиолетово-лиловый плащ закуталась. Впрочем, красавица роста высокого, это очевидно. А глазки золотые огоньки свечей в себя впитали, поглядывают на него чуть недоверчиво. Эх, учуяла, верно, красотка (носик слегка длинноват, отметил про себя князь-привереда) ароматы пивные. И ведь досада, неважно, сколько его, пива этого, выпьешь, – все равно смердит невместно.