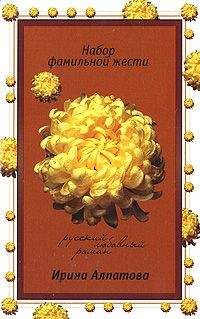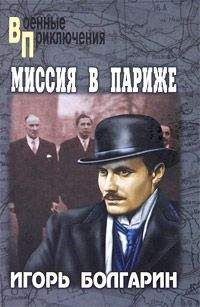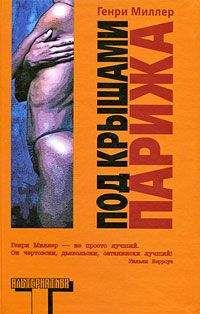– На себе, что ли, доставили? – спросил все еще не потерявший подозрительности Бушкин.
– Скажете тоже: на себе. Из-под Зольдау?.. Не, поначалу лошади были. Только они пали под Малоярославцем. Оттуда уже, и верно, на себе.
– Из-под Зольдау? Это ведь Пруссия. Постой, и сколько же времени вы шли? – спросил Старцев, в недоумении снимая пенсне, покрытое мелкими капельками дождя, и близоруко всматриваясь в серое лицо Данилова.
– Да не считано, – прошепелявил красноармеец. – Недель, может, восемь, может, боле…
– А зубы где посеял? – съязвил Бушкин.
– Под Двинском, – простодушно и даже весело ответил Данилов, не стесняясь своего изъяна. – Какие-то дезертиры в лесу напали, прикладом сунули… Все ж отбились!
– Но Двинск – это ведь уже Латвия, – пожал плечами Старцев.
– Может, и Латвия. Лопочут, и верно, не по-нашему. Так ведь мы не по карте шли, а от человека до человека, где надежнее. А там, под Двинском, русских отыскали. Староверов. Честные люди. Они нам малость подсобили… Конечно, если б по карте, так мы бы быстро дошли. В болотах бы не вязли.
– Фу ты, черт! Что за история, так и так! – выругался Бушкин. – Тут такое дело, в Чека надо разбираться.
– Ага, как же, сразу в Чека! – озлился Матвей Данилов и, сунув в свое тряпье, бывшее когда-то солдатской курткой, руку, вытащил потертую на сгибах бумажку. – Вот!.. От командира полка товарища Ефрема Гутко. Сколько червонцев и все такое… полномочия… Зачем же в Чека? Мы уж пол-Москвы прошли, где только не были, во всех наркоматах. Нам сказали: золото положено в Гохран сдавать. А ты, товарищ, сразу в Чека! Это в тебе, товарищ, бюрократия застряла, злейший, между прочим, скажу я тебе, пережиток!
– Но-но! Ты это… – возмутился было Бушкин, однако Старцев остановил его движением руки.
…Через полчаса, умывшиеся с дороги, с чуть просветлевшими лицами, кавалеристы Гая сидели в одной из комнатушек Гохрана, заваленной после стремительной «ревизии» Юровского всяческим ювелирным добром, и, расчистив длинную поцарапанную столешницу, столбиками раскладывали на ней червонцы из корпусной кассы.
– Тысяча шестьсот двадцать два… двадцать три… – считал вслух, облизывая сухие губы, ветврач, ставя палочки на листе бумаги, а Бушкин, давно приобретший навыки простейшей бухгалтерии, щелкал костяшками на счетах. Матвей Данилов, при виде каждого извлекаемого из сумы червонца, умильно и радостно кивал головой.
Старцев рассматривал ветеринара. Совсем молоденький паренек. По говору – вятский, а по лицу – с доброй примесью чувашской или иной какой местной крови. Скулы на опавшем лице выдвинулись вперед, маленькие темные глазки. Прост, неприметен, непритязателен. Сколько же он вынес в этом пути! Как хватило сил!
Иван Платонович вглядывался в лицо ветврача, словно стараясь разгадать стоящую за этими простецкими, невыразительными чертами тайну. Тайну истории всей Руси, которая из маленького, нищего, порабощенного завоевателями княжества превратилась в могучую бескрайнюю державу.
– Три тысячи восемьсот пятьдесят девять червонцев, – закончил наконец подсчет Чернышев. И, тяжело вздохнув, объяснил: – Несоответствие с документом. Шестнадцать монет нами было истрачено в пути… на сменных лошадей, на кормежку, на защиту и помощь… о том я готов нести персональную ответственность перед Реввоенсоветом. Актов составить не мог, имею свидетелем лишь товарища Данилова, верного моего боевого спутника.
– Так точно и есть, – кивнул Матвей. – И тут мое честное красноармейское слово… хучь перед самим товарищем Троцким.
– Это ничего. Это мы засвидетельствуем как дорожные траты, – сказал Старцев, вспоминая Юровского и его комиссию. – Менее полпроцента от общей суммы… это может быть списано законно. Не волнуйтесь.
Чернышев и Данилов облегченно вздохнули. Видимо, эти деньги, потраченные как бы на собственные нужды, не давали им покоя.
Подписали необходимые бумаги. Под три слоя копирки.
– Куда ж нам теперь? – спросил Чернышев в некоторой растерянности, как человек, лишившийся вдруг цели в жизни.
Старцев усмехнулся.
– Вот Бушкин вам поможет… Для начала обмундируетесь, отмоетесь в бане, поедите как следует, отоспитесь, а уж затем доложитесь по начальству. Предъявите копии актов…
Бушкин тяжело вздохнул, покачал головой.
– Ладно, чего уж! Пробьемся! – сказал он. – Пошли!
Оставшись один, Старцев, кряхтя, перетащил сумы с червонцами в большую палату, где хранилось золото в монетах и слитках. Включил свет. Здесь и раньше-то порядок был относительный, кое-как наведенный, а сейчас и вовсе все было, как после землетрясения или внезапного грабежа со взломом. Последствия «ревизии». Сюда без всякого почтения к уже установившейся системе хранения притащили многие ценности, извлеченные из глубин подвалов. Кое-что просто «просыпалось» по дороге, как зерно из рваных мешков.
Старцев нагнулся, подобрал стрекозу. Серебряный ажур, легкие сквозные крылышки, на которых сияют махонькие зеленые изумруды, золотые стрекозиные лапки, легкие, как бы в полете отброшенные к усыпанному, сверкающему крохотными изумрудами длинному хвосту. Крупные рубиновые глазки. Работа Фаберже или Бролина. Чудо. Фантастика. А он чуть было не наступил ногой.
Вот еще валяется брошь-подвеска с российским императорским гербом. Бриллианты крупные, до десяти карат. Это из числа подарочных украшений к трехсотлетию дома Романовых. Раньше они у Левицкого лежали в отдельном сейфе, в большой серебряной шкатулке. Тоже произведение искусства.
А сколько ревизоры рассовали по карманам, никто уже не узнает. У Али-Бабы в пещере было больше порядка. Ай-ай-ай!
«Ревизия»… Какая ревизия, если никто тут толком ни в чем не в состоянии разобраться! По комнатам и коридорам, по подвалам и операционному залу рассыпаны все богатства России.
Нет, не все. Это лишь начало! Сегодня опять прибудет грузовик, и опять опись будет условной, приблизительной.
«Ревизия». Не топить нужно Гохран, а помогать ему!
Но куда там! Этому, с черной бородой, с вколоченными под лоб антрацитовыми глазами, недочеловеку Юровскому – ему разве что-то втолкуешь?
Говорят, его собирается принять Ленин…
Старцев не мог больше находиться в палате, остро ощущая свою беспомощность, невозможность справиться с бедой. Что он может поделать! Вышел на крыльцо.
Неподалеку, прислонившись к стене и отставив – ой, не по уставу! – винтовку, стоял часовой. Полузакрыв глаза, он тихо пел. Очевидно, полагал, что рядом никого нет.
Голос был удивительно чистый – тенор, какой и на сцене не всегда услышишь. И невероятно прозрачной легкости. Казалось, звуки уходили прямо в серенькое, мокрое небо, как дымок, и достигали там, в сумеречной мгле, невероятных высот.