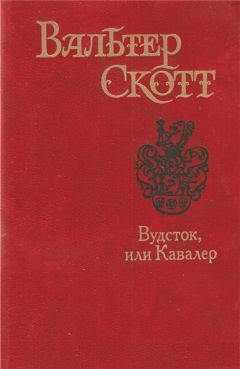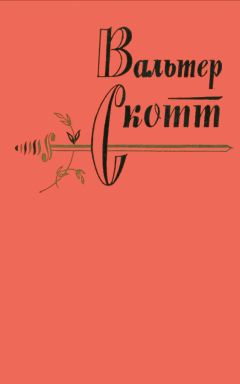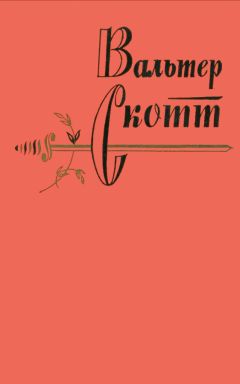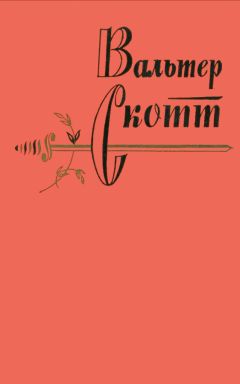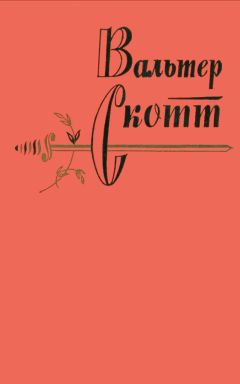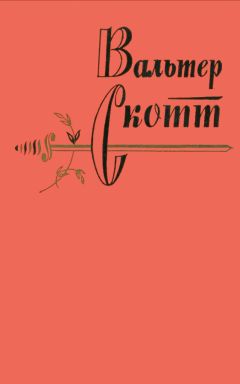Он окинул комнату проницательным взглядом, остановил его на священнике и обратился к Эверарду с такими словами:
— С тобой, я вижу, почтенный человек. Ты не из тех, добрый Маркем, кто даром теряет время и тратит его бесполезно. Отложив все дела мирские, ты стремишься вперед, к деяниям будущей жизни…
Именно так мы должны употреблять наше время в этой бедной юдоли земных грехов и забот, тогда мы можем надеяться… Но что это? — Он внезапно переменил тон и спросил отрывисто, резко и тревожно:
— Кто-то вышел из комнаты после того, как я вошел?
Уайлдрейк действительно выходил на минуту, но теперь вернулся и выступил вперед из оконной ниши, как будто он все время был здесь и его просто не заметили.
— Нет, сэр, — сказал он, — я держался на заднем плане из уважения к вам. Достойный генерал, я надеюсь, в государстве все в порядке, хотя ваше превосходительство и удостоили нас своим посещением в такую позднюю пору. Не желает ли ваше превосходительство…
— А! Это наш верный господин посредник… наш честный поверенный… — сказал Оливер, устремив на него строгий и внимательный взгляд. — Нет, сэр, сейчас мне ничего не нужно, кроме доброго приема, который, боюсь, мой друг Эверард не торопится мне оказать.
— Добрый прием ожидает вас всюду, милорд, — ответил Эверард, с трудом заставляя себя говорить, — могу только надеяться, что не плохие новости побудили ваше превосходительство так поздно пуститься в путь, и осмелюсь спросить, так же, как мой адъютант, какую закуску прикажете вам принести?.
— Республика жива и здорова, полковник Эверард, — сказал генерал, — даже несмотря на то, что многие из ее слуг, которые до сих пор были ее помощниками и добрыми советчиками, радетелями за народное благо, теперь охладели в своей любви и привязанности к богоугодному делу, которому мы все должны быть готовы служить по первому зову; И каждый должен служить ему по своей способности не слишком поспешно и не чересчур медленно, не слишком равнодушно и не чересчур рьяно, но в такой мере и в таком расположении, чтобы усердие и благочестие встречались и обнимались в деяниях и помыслах наших. И все-таки мы колеблемся после того, как уже положили руку на плуг, и от этого сила наша слабеет.
— Простите меня, сэр, — сказал Ниимайя Холдинаф, который слушал довольно нетерпеливо и начал догадываться, кто к ним явился, — простите меня, я облечен правом говорить об этом.
— А! достойный сэр, — сказал Кромвель, — но ведь мы, конечно, гневим господа, когда останавливаем поток, который, как источник, льющийся из скалы…
— Нет, здесь я не согласен с вами, сэр, — возразил Холдинаф, — подобно тому, как рот передает телу пищу, а желудок переваривает посланное небом, так и проповеднику ведено поучать, а народу — слушать, пастырю — загонять овец в ограду, а овцам — пользоваться заботами пастыря.
— А! почтеннейший сэр, — сказал Кромвель елейным тоном, — мне кажется, вы очень близки к великому заблуждению, когда полагаете, что церкви — это большие, высокие дома, построенные каменщиками, прихожане — люди, богачи, которые платят десятину крупную и мелкую, а священники — люди в черных рясах или серых плащах, получающие оную, — единственные раздатчики христианской благодати…
По моему разумению, более по-христиански будет, если предоставить алчущей душе искать поучения там, где она может его найти, — в устах ли светского учителя, которому право проповедовать дано одним только небом, или у тех, кто получил духовный сан и свои духовные степени от синодов и университетов — в лучшем случае собраний таких же жалких грешников, как они сами.
— Вы сами не знаете, что говорите, сэр, — нетерпеливо возразил Холдинаф. — Разве может свет явиться из тьмы, смысл — из невежества, а знание таинств религии — от таких неученых врачевателей, которые вместо полезных лекарств дают яд и набивают омерзительной грязью желудки тех, кто просит у них пищи?
На эти слова, о жаром произнесенные пресвитерианским священником, генерал ответил чрезвычайно мягко:
— Жаль, жаль! Ученый человек, но невоздержанный; его снедает чрезмерное усердие… Увы, сэр, сколько бы вы ни говорили о ваших евангельских кушаньях, но слово, сказанное в подходящий момент человеком, который сердцем близок к вашему сердцу, как раз тогда, быть может, когда вы скачете в бой с врагом или идете на штурм, — для бедной души это подобно ломтю ветчины на угольях; голодный предпочитает его роскошному пиру, тогда как пресыщенного тошнит и от меда. Но несмотря на это, хоть я и говорю по своему недостойному разумению, я бы не стал принуждать ничью совесть и предоставил бы ученому следовать за ученым, а мудрому учиться у мудрого; бедным же простым душам нельзя запрещать пить из реки, текущей у дороги… Да, поистине, какое прекрасное зрелище явит собой Англия, если люди будут, как в лучшем мире, снисходить к слабостям друг друга и взаимно делить все блага земные… Ведь богатый всегда пьет из серебряных кубков, а бедный — из простых деревянных чарок; и пусть так оно и будет, раз оба пьют одну и ту же воду.
Тут отворилась дверь, и вошел какой-то офицер; Кромвель прервал свою елейную протяжную речь, которая, казалось, будет продолжаться до бесконечности, и спросил отрывистым и повелительным тоном:
— Ну что, Пирсон, он пришел?
— Нет, сэр, — ответил Пирсон, — мы спрашивали там, где вы приказали, и в других местах, где он бывает.
— Негодяй! Неужели он оказался предателем? — с горечью воскликнул Кромвель. — Нет, нет, тут слишком велика была и его выгода. Мы сейчас найдем его… Послушай…
Читатель легко представит себе тревогу Эверарда во время этого разговора. Ему было ясно, что Кромвель явился к нему собственной персоной по какой-то причине первостепенной важности, и он сильно подозревал, что генерал получил сведения о местопребывании Карла. Если бы Карла схватили, пришлось бы опасаться немедленного повторения трагедии тридцатого января, и неизбежным следствием была бы гибель всей семьи Ли, включая, вероятно, и самого Маркема.
Он жадно искал поддержки во взгляде Уайлдрейка; однако лицо его помощника выражало тревогу, которую тот пытался скрыть под своим обычным спокойным видом. Но Уайлдрейк был слишком подавлен; он шаркал ногами, поводил глазами, судорожно сжимал руки, как запутавшийся свидетель перед проницательным судьей, которого не проведешь.
Тем временем Оливер ни на минуту не давал им возможности посоветоваться друг с другом. В то самое время, когда его невразумительное красноречие полилось таким извилистым потоком, что никто не мог определить, куда оно приведет, его острый, наблюдательный взгляд обрекал на неудачу все попытки Эверарда объясниться с Уайлдрейком хотя бы знаками. Правда, Эверард, улучив момент, посмотрел на окно, а потом взглянул на Уайлдрейка, как бы намекая на возможность бегства. Но кавалер в ответ чуть заметно отрицательно покачал головой. Тогда Эверард потерял всякую надежду; он с горечью сознавал, что надвигается неизбежное несчастье, и тревожно думал о том, в какой форме или с какой стороны оно их настигнет.