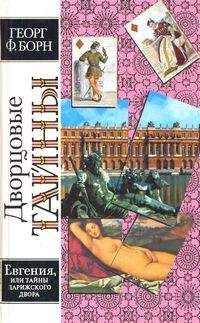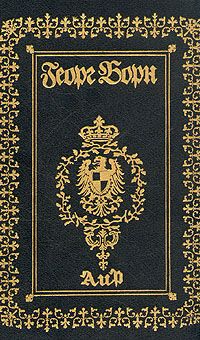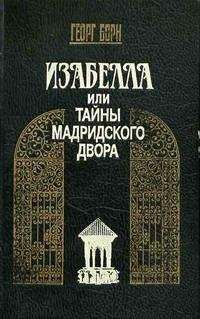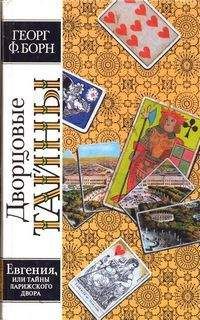Теперь он стал набожным, достопочтенным человеком.
Он основывает школы и больницы и оставляет дырявое государственное судно, чтобы возможно незаметным образом спасти свои миллионы и жизнь!
Но нашлись другие кандидатуры, которые заняли места прежних!
Гаусман, сенский паша, также бежал, и его место занял известный Шевро, скоро ставший министром императрицы.
Добрый барон Гаусман, как и все градоначальники в больших городах, неслыханным образом опустошал городской карман, что вело, конечно, постоянно к новым налогам! Наконец, он бежал, провожаемый проклятиями парижан, которые были так дерзки, что потребовали отчета в его финансовом хозяйстве и бесчисленных миллионах! Он уехал в Италию и с неслыханным бесстыдством объяснял оттуда, что он бедный человек и владеет только несколькими стами тысяч франков, которые сберег от своего жалования!
Наследовавший его место Шевро был прежде префектом Нанта и Лиона. Он обожал Наполеона, и потому его надо было наградить и возвысить, несмотря на то, что в Лионе он распорядился с общественным имуществом точно так же, как Гаусман в Париже!
Теперь этот несравненный Шевро сделался министром императрицы, и в одной из последних глав мы увидим, как он, подобно обыкновенному вору, насмеялся над этим доверием, хотя самые высшие ордена и почетные знаки украшали его грудь!
Это тайны Тюильри, которые до сих пор оставались нераскрытыми или недостаточно известными, хотя мы ручаемся за их правдивость во всех частях.
Кроме министров, к которым мы теперь вернемся, должно упомянуть еще об одном высшем государственном чиновнике. Мы говорим о старом Девьенне, президенте Парижского кассационного суда.
Он являлся, до поступления Маргариты в монастырь, в дом Олимпио, чтобы в качестве посредника Наполеона купить у прежней его любовницы вечное молчание о тайне! За это седовласый президент предлагал дарственную запись на замок Муши. Ему пришлось выслушать презрительный отказ. Маргарита объявила посреднику, что отреклась от мирских интересов и почла за лучшее для своего измученного женского сердца удалиться под мирную сень монастыря.
Олимпио, знавший насквозь первых государственных мужей, уже предвидел падение. Долорес страстно желала уехать в свое отечество, спокойно насладиться достигнутым, наконец, счастьем, и Олимпио обещал исполнить ее желание, лишь только сделает последнее, что считал своим долгом.
Мы видели в первой главе этого рассказа, что на балу в Тюильри в 1870 году война против Пруссии считалась уже решенным делом.
Олимпио посвятил в эту тайну Олоцага, и хотя ему говорили, что эта война необходима для успокоения возбужденных умов, однако он пророчил, что война приведет империю к гибели.
Он не хотел служить этому несправедливому, бесстыдно вынужденному кровопролитию, он хотел, напротив, воспрепятствовать ему.
Но министр Оливье, слабое орудие императора, кукла императрицы, подал голос за войну, потому что оба они желали того и считали необходимым, дабы занять население.
Евгения еще сильнее стала требовать войны, когда узнала, что принц Леопольд Гогенцоллерн, которого испанцы тогда хотели иметь королем, отказался от предложенной ему руки одной из ее племянниц.
Отказ немецкого принца от предложенной ему короны не мог заставить тюильрийское общество отказаться от задуманного плана, так как Евгения, исполненная гнева, желала отомстить немцам.
Кроме того, принц Наполеон и министр Грамон были слишком заинтересованы в делах биржи, чтобы желать войны как средства к своему обогащению.
Герцогу Грамону особенно хотелось поправить свои денежные обстоятельства, и потому он горячо представлял императрице, что отказ немецкого принца не может служить достаточным поводом к отказу от войны.
Этот благородный герцог принадлежал к тем низким натурам, которые готовы служить всякому патрону с одинаковой преданностью и верностью. В царствование Луи-Филиппа он был его горячим приверженцем, когда же вступил на престол Наполеон, он примкнул к нему, чтобы поправить свои денежные обстоятельства, в которых он вечно испытывал затруднения при его баснословно расточительной жизни.
Теперь он стал министром иностранных дел и думал воспользоваться этим местом для того, чтобы, подобно большей части наполеоновских ставленников, приобрести несчетное богатство.
Через несколько дней после большого праздника в Тюильри, на котором военный министр уверял, что войска готовы к бою, Евгения сидела в своем будуаре; она была полна веры и надежды! Она сейчас только говорила с Оливье и услышала от него, что он добился от палаты кредита на нужные миллионы и согласия на войну; она всегда смеялась над тупостью и нелепостью этого министра, но теперь должна была согласиться, что тот министр понял, однако, как провести то, что она желала; за это она его милостиво отпустила, посвятив предварительно в тайну своего плана, который особенно занимал ее в эти дни приготовлений!
Евгения хотела, чтобы император, для приобретения снова популярности и любви армии, принял командование, хотя он был так дряхл и слаб, что совершенно не мог выносить верховой езды, и поэтому должен будет объезжать поля битвы в экипаже. Но Евгения желала этого и знала, что устроит это! Люлю должен был сопровождать императора; сама же она хотела остаться регентшей; этого ей хотелось во что бы то ни стало, для чего она и склонила на свою сторону Оливье.
Воодушевленная высокомерными надеждами, Евгения писала своей матери, что наконец настало время отомстить немцам и что она возьмет бразды правления в свои руки.
Вдруг она услышала шум за портьерой, отделявшей будуар от комнаты, где была библиотека. Евгения была одна; откуда мог произойти этот шум…
Она оглянулась.
Портьера раздвинулась.
Евгения побледнела, перо выпало из ее рук.
В дверях показалась высокая, могучая фигура Олимпио, который всегда представал перед ней, подобно воплощенному голосу ее совести или всезнающему пророку.
Она боялась этого Олимпио Агуадо, дрожала перед ним; он являлся ей как невидимый дух; чего хотел он в этот час, когда она достигла высочайшей степени своего могущества, крайней цели своих желаний?
Олимпио вступил в будуар и задвинул за собой портьеру, потом приблизился к императрице, которая привстала и неподвижно смотрела на него, как будто окаменев от его взгляда.
Она опомнилась, думая, что Олимпио пришел к ней по делу Хуана, и у нее был готов ответ, которым она надеялась его удовлетворить.
Странно! Евгения боялась этого испанского дона, и однако в тихие часы питала к нему совершенно другое чувство — ей казалось тогда, что она должна привязать его к себе, что он ей необходим, что она в нем нуждается.