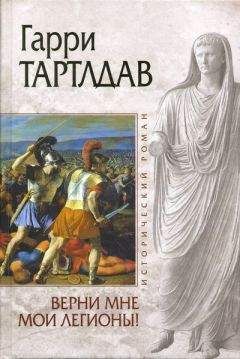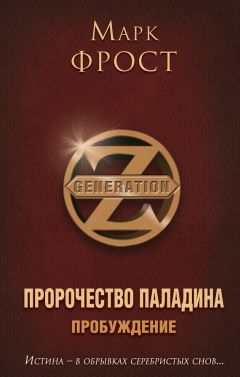Рассмеялся и Менедем, чьи представления о религии всегда были консервативны. Но Соклей задумчиво поджал губы. Со времен Сократа философам не нравились боги, описанные в «Илиаде»: похотливые, вздорные, часто глупые или трусливые — предводители шайки разбойников и даже хуже. Осторожно, шаг за шагом, мыслящие люди нащупывали путь к чему-то, что очень походило на бога, который уже имелся у иудеев. Может, в конце концов, иудеи были не так уж глупы.
«Как бы мне это выяснить?» — подумал Соклей и спросил Химилкона:
— Кто-нибудь из них говорит по-эллински?
— Некоторые, может, и говорят. — Но, судя по выражению лица Химилкона, он в этом сомневался. — Только лучше бы тебе подучить арамейский. Я мог бы сам тебя учить, если хочешь. И не взял бы за это много.
Теперь Соклей явно засомневался. Его любознательность никогда не простиралась так далеко, чтобы ему хотелось учить иностранные языки.
— Не знаю… посмотрим, — ответил он.
— Да, с вами, с эллинами, всегда так, — заметил Химилкон. — Вы хотите, чтобы остальные говорили на вашем языке, но сами не любите учить чужие. Это все прекрасно в Элладе, мой друг, но помимо Эллады существуют и другие страны. Конечно, есть и еще вариант: вы можете нанять в одном из финикийских городов говорящего по-эллински переводчика, но это обойдется куда дороже, чем научиться самому.
Финикиец привел неплохой аргумент: это заставит Соклея задуматься о том, чтобы самому овладеть арамейским. Посмотрим, — повторил он уже другим тоном. Химилкон снова поклонился. — Знай, что я к твоим услугам, мой повелитель.
* * *
Когда они вышли из дома финикийца, Менедем спросил:
— Ты и вправду хочешь научиться этому «вар-вар-варвар»?
Соклей покачал головой.
— Не имею ни малейшего желания. Но не хочу и полагаться на переводчика. — Он вздохнул. — Там видно будет.
* * *
Менедем чувствовал себя в андроне как в ловушке. В кои-то веки это не было связано с Бавкидой: она оставалась наверху, в женских комнатах. Но друг Филодема Ксанф был до того скучен, что, подобно горгоне Медузе, умел доводить людей до полного окаменения.
— Мой внук начинает учить алфавит, — рассказывал он сегодня. — Смышленый малыш — похож на мать моей жены. Мой тесть любит бобы больше всех прочих известных мне людей, кроме, может быть, моего двоюродного прадедушки. «Дай мне бобовую похлебку — и я буду счастлив», — бывало, говаривал мой двоюродный прадедушка. Он дожил почти до восьмидесяти, хотя под конец совсем согнулся и ослеп.
— Ну разве это не интересно? — с фальшивым энтузиазмом спросил Менедем.
Он посмотрел на отца, надеясь, что тот вытащит их обоих из затруднительного положения. В конце концов, Ксанф был его другом. Но Филодем просто указал на кратер с разбавленным вином и спросил:
— Не хотел бы ты выпить еще, почтеннейший?
— Я бы не возражал. — Ксанф взял черпак и снова наполнил свою чашу.
«О нет, — подумал Менедем. — Теперь он будет говорить еще дольше!»
Вообще-то, судя по всему, Ксанф и без вина отличался разговорчивостью — он мог говорить больше трех обычных человек, вместе взятых. Сделав пару глотков, он повернулся к Филодему и сказал:
— Был ли ты на ассамблее, когда я вел речь о необходимости поддерживать добрые отношения и с Антигоном, и с Птолемеем? А в придачу с Лисимахом и Кассандром, если уж на то пошло?
— Вообще-то я там был, — быстро ответил Филодем, сказав неправду.
Отец Менедема, человек суровой добродетели, очень редко лгал, но в отчаянных случаях прибегал к отчаянным мерам — и сейчас даже не колебался.
Но ему это не помогло.
— Зато твой сын, наверное, тогда был еще в море, — заявил Ксанф. — Уверен, ему интересно будет послушать мои соображения.
Менедем понятия не имел, почему их гость так в этом уверен.
— Мой сын лично встречался с Птолемеем, — сказал Филодем. — Поэтому тебе может быть интересно выслушать его точку зрения.
Он мог бы и не сотрясать попусту воздух. Ксанфа не интересовали ничьи точки зрения, кроме своей собственной, и он уже сделал глубокий вдох, готовясь нырнуть в свою речь.
— А как насчет Селевка, о несравненнейший? — попытался отвлечь его Менедем. — Ты говоришь, что мы должны дружить со всеми македонскими генералами…
Не то чтобы он и правда очень интересовался Селевком, однако как отвлекающий маневр это вполне сойдет.
— …но как же насчет Селевка, там, на Востоке?
— Очень хороший вопрос, молодой человек. Можешь не сомневаться, я рассмотрю его во всех подробностях на следующем заседании ассамблеи, — заверил Менедема Ксанф. — А сейчас…
Засим последовала речь. Попытки сопротивления оказались напрасными, они только отсрочили неизбежное.
«Человек может закрыть глаза, — подумал Менедем. — Почему он не может поступить так же со своими ушами?»
То, что уши невозможно сложить, поразило юношу как величайшая несправедливость и казалось ему все более несправедливым по мере того, как тянулось время.
Самым худшим было то, что, закончив, Ксанф ожидал похвалы. Он всегда ее ждал и обиженно надувался, если не получал.
— Это было… что-то, господин, — выдавил Менедем.
Такой ответ избавил его от печальной необходимости говорить, что именно это было.
— Да. Что ж, а теперь у меня есть кое-какие срочные дела, — сказал Филодем.
В недобрый миг Менедем побоялся, что отец уйдет и оставит его с Ксанфом наедине. Он знал, что раздражает отца, но не ожидал, что тот настолько его ненавидит. Но Филодем добавил:
— И мне понадобится сын.
Ксанфу нелегко было уяснить намек, однако после долгого обмена банальностями он наконец распрощался.
— Клянусь египетской собакой! — воскликнул Менедем. — Этот человек хоть когда-нибудь замолкает?
— Когда ложится спать — возможно, — ответил отец.
— Бьюсь об заклад, он продолжает болтать даже во сне, — неистово заявил Менедем. — Это было бы очень на него похоже!
Филодем засмеялся с легким неодобрением.
— Нехорошо так говорить.
Он помолчал и вздохнул.
— Это не значит, что ты ошибаешься, имей в виду, но так говорить нельзя.
— Очень жаль!
Менедем встал и потянулся так, что скрипнули позвонки. Потом тоже вздохнул — с облегчением.
— Самое печальное, что сам Ксанф и понятия не имеет, насколько он туп.
— Да, и не рассказывай ему об этом. У него доброе сердце. Он просто зануда, тут уж не его вина. Так же как никто не может быть виноват в своей склонности к тушеной капусте. Я не хочу, чтобы Ксанфа оскорбляли, слышишь?
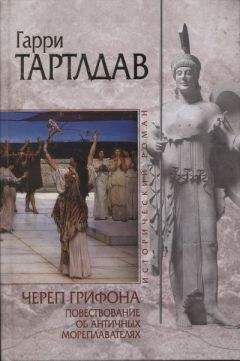
![Анчи Мин - Дикий Имбирь[Отверженная]](https://cdn.my-library.info/books/18309/18309.jpg)