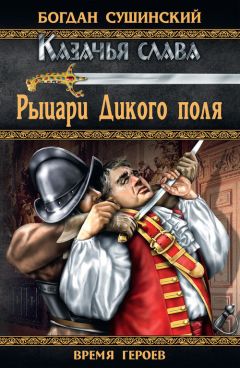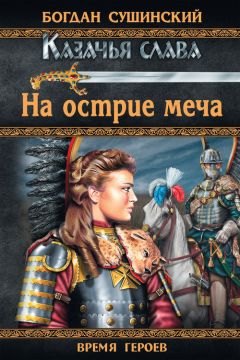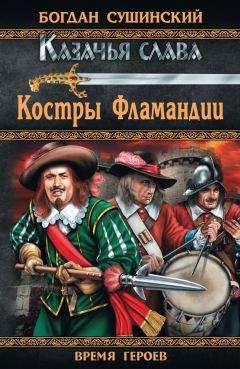— Неужели только одну?
— Не перебивать, полковник, не перебивать! Речь идет о той лжи, которая на самом деле окажется единственной святой правдой, произнесенной мною за все время пребывания в этом кошмарном городе — с его штурмами, осадами и озверевшими от крови и наслаждений мужчинами?
Князь вновь зарылся в ее волосы и потянулся губами к источавшей аромат каких-то восточных благовоний, ошалело пульсирующей шее. Пульс ее сонной артерии казался ему сейчас призывными звуками боевого барабана, способного даже полумертвого поднять с земли, вернуть в седло и бросить на новый приступ цитадели.
— Но ты говори, говори. Ложь — это прекрасно.
О наследнике польского престола, борьбе за варшавский трон и прочих прелестях придворных интриг в этой постели на время было забыто. Хотя именно в этих интригах они сумели бы отыскать столько незабываемой лжи!
— Как я уже сказала, это не ложь, а святая правда.
— В таком случае, давай остановимся на чем-то среднем между ложью и правдой.
— Согласимся.
— Тогда говори.
— Знаешь, мне вдруг показалось, что до тебя, до этих любовных игр, у меня, по сути, не было мужчин. Некое соитие происходило, но к «познанию мужчины» никакого отношения оно, оказывается, не имело. Так, всего лишь обычная постельная возня…
Гяур затих, замер в своем пряном, хмельном убежище, и почти минуту не подавал никаких признаков жизни. Смысл сказанного Камелией дошел до него с тем же благостным опозданием, с каким пока что доходило все, что было связано с женщинами. Только поэтому он скептически хмыкнул. Слишком громко, чтобы женщина не расслышала этого.
— Знала, что не поверишь, — обиженно вздохнула она.
При этом Гяур ощутил движение всего ее тела и подумал, что если эта фламандская амазонка в чем-то и уступает графине де Ляфер, то ему не дано когда-либо постичь, в чем именно. Но в то же время в чем-то она даже превосходила Диану. Вот только в чем именно: в нежности, в артистичной изысканности ласк? Или, может, в умении владеть своим телом, подчиняясь мужчине и почти растворяясь в нем? В отличие от графини де Ляфер, привыкшей безраздельно властвовать не только телом своего избранника, но и его чувствами, его страстями.
«Да ты становишься магистром любовных утех! — с неприкрытой грустью усовестил себя князь. — Признай эту ложь, которая окажется единственной святой правдой, сказанной самому себе в кошмарном городе… с его штурмами, осадами и ведьмами-соблазнительницами».
— … Но даже если ты действительно не поверишь, все же это — святая правда, — неожиданно настояла на своем фламандка.
— Что-то среднее между ложью и правдой, а? Мы ведь так условились.
— Когда я поняла, как это прекрасно — оставаться с тобой в постели, мое отношение к тебе сразу же изменилось. Разве ты не заметил этой перемены?
— Кажется, да, заметил.
Если бы Гяур не боялся еще больше огорчить женщину, он бы признался, что вообще ничего не помнит, ибо все, что с ним происходило во время их буйства, развеялось в тумане полусознания, в полубреду, в ритме пульсирующих тел и упоительности поцелуев. Если бы он только решился признаться ей в этом…
— Все начинается с женской мести. У женщин всегда так, — проговорила Камелия, томно запрокинув руки и пытаясь поймать, отогреть ногами ноги Гяура, захватив его в водоворот еще одного безумия. — Начинается с женской мести, а заканчивается женской грустью.
— Что заканчивается грустью — это понятно. Не ясно, почему начинается с мести? В чем ее смысл?
— Смысл женской мести всегда в одном и том же — в самой мести. В ее сладостности. В том, что, мстя одному мужчине, порой совершенно случайно подвернувшемуся под ногу этой женщине…
— “Подвернувшемуся под ногу женщине” — это хорошо сказано, во всяком случае, предельно точно, — отметил про себя Гяур.
— … Она одновременно пытается мстить всем тем мужчинам, которых она так никогда и не сумеет заманить в свою постель; которые в свое время не заметили ее или пренебрегли ее женскими хитростями…
— Неужели существует еще и такая месть?
— Узнаешь. Тебе еще предстоит многое узнать. Похоже на то, что наша встреча окажется не столь уж случайной, как нам обоим показалось вначале.
Она вдруг умолкла и, почувствовав, что вновь обладает мужчиной, встрепенулась, взметнулась всем телом, словно пыталась вознестись над их греховным ложем, а вознесясь, воспарить вместе с любовником. Не избавляя при этом себя и его ни от сладостных терзаний, ни от ликующего греха.
Вознестись, правда, не удалось, они остались на земле. Однако тело Камелии еще долго металось где-то между землей и небесами, и бунтовало, и рвалось на волю, чтобы, ощутив ее, вновь предаться тому плену, в который женщина сама себя с опьяняющей обреченностью загоняла.
И так продолжалось долго. Столько, сколько понадобилось, чтобы познать и радость вознесенности и твердь греховного падения. Неописуемо долго…
К тому времени, когда фламандка привела себя в порядок и вышла из ванной комнаты, Гяур полулежал в глубоком массивном кресле у низенького столика, на котором валялись его сабля и два пистолета. В эти мгновения он был похож на самоубийцу, решающего для себя, каким оружием следует свести с жизнью те счеты, которые морально он, по существу, уже давным-давно свел.
По-кошачьи подкравшись к полковнику, Камелия уселась ему на колени, обхватила икрами спинку кресла и с трепетом в груди поднесла к его губам распятие, поцелуй которого должен был послужить обетом молчания. В любом случае Гяур не имел права ни замечать излишней вольности, которую позволяла себе Камелия, ни тем более — задумываться над ней.
— Не буду спрашивать, хорошо ли тебе было со мной, чтобы не казаться глупой, — повела она пальцами свободной руки по его губам. Он так, по очереди, и целовал их — крест с распятием и руки, которые еще недавно распинали его самого. В искусстве палача отказать им было трудно.
— Они, очевидно, скоро придут?
— Боишься называть имя графини де Ляфер, а потому упускаешь и имя принца крови? Да, принц и принцесса скоро появятся здесь.
— И поднимутся сюда, — напомнил ей Гяур.
— Возможно, поднимутся. Если только не станут предаваться любовным утехам в одной из комнат первого этажа.
— Тогда нам придется прятаться в твоем будуаре, — кивнул он в сторону двери, за которой еще недавно происходило все то, чего, в общем-то, как он сейчас, будучи в холодном спокойствии, представлял себе — происходить не должно было ни сегодня, ни когда бы то ни было в будущем.