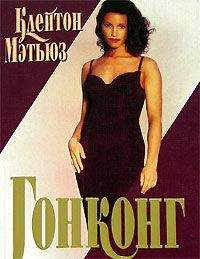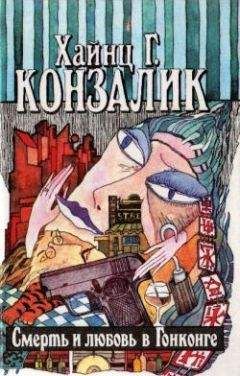— Ещё партеечку? Двадцать тысяч на кону, а, Четырехпалый У? — с ликованием предложил Тан, убежденный, что старый черт Цзи Гун, бог азартных игроков[24], сидит сегодня вечером у него на плече.
Четырехпалый покачал было отрицательно головой, но как раз в этот момент прямо у него над головой с жалобным криком пролетела чайка.
— Сорок, — тут же сказал он. Крик чайки — это знак с неба, значит, ему повезет, и он мгновенно передумал. — Сорок тысяч или ничего! Но играть придется в кости: времени нет.
— Клянусь всеми богами, нет у меня сорока. Но с теми двадцатью, что ты мне должен, я займу завтра, когда откроется банк, против моей джонки и буду отдавать тебе всю свою прибыль, ети её, за следующие отправки золота или опиума, пока все не выплачу, хейя?
— Слишком много для одной игры, — мрачно изрек Пун Хорошая Погода. — Вы оба сбрендили, игроки хреновы!
— Играем у кого больше за один бросок? — уточнил У.
— Айийя, вы точно двинулись. — Пун хоть и произнес эти слова, но возбужден был не меньше остальных. — Где кости?
У принес. Три фишки.
— Ну, Рябой Тан, бросай, попытай, что тебя ждет в будущем, етит твою!
Рябой Тан поплевал на ладони, помолился про себя, а потом с криком бросил кости.
— О-о-о, — сокрушенно простонал он. Четыре, три и ещё четыре. — Одиннадцать!
Остальные застыли чуть дыша.
У поплевал на кости, призвал на них проклятие, благословил и бросил. Шесть, два и три.
— Одиннадцать! О боги, великие и малые! Ещё раз — бросаем ещё раз!
Возбуждение на палубе росло. Рябой Тан бросил:
— Четырнадцать!
У сосредоточился среди опьяняющего напряжения, а затем бросил кости.
— Айийя! — взорвался он, а за ним и остальные. Шесть, четыре и два.
— И-и-и! — только и смог выдавить из себя Рябой Тан. Он держался за живот, смеясь от радости. Остальные поздравляли его и сочувствовали проигравшему.
У пожал плечами, сердце ещё колотилось в груди:
— Будь прокляты все чайки, что летают у меня над головой в такое время!
— А-а, ты поэтому передумал, Четырехпалый У?
— Конечно, это было как знак. Много ли чаек кричит, пролетая у тебя ночью над головой?
— Верно. Я поступил бы так же.
— Как повезет — джосс![25] — Тут У просиял. — И-и-и, но зато какие ощущения — получше, чем от «тучек и дождя»[26], хейя?
— Не в мои годы.
— А сколько тебе, Рябой Тан?
— Шестьдесят, а может, семьдесят. Почти столько же, сколько тебе. — В отличие от всех обитающих на суше деревенских жителей, хакка не ведут учет рождений и смертей. — Чувствую себя не больше чем на тридцать.
— А слышал, в лавку «Лаки медисин», что на рынке в Абердине, привезли новую партию корейского женьшеня, в том числе и столетнего! От него твой «стебель» будет огнем гореть!
— Со «стеблем» у него все в порядке, Пун Хорошая Погода! Его третья жена опять носит ребенка! — У расплылся в беззубой улыбке и вытащил толстую кипу свернутых пятисотдолларовых купюр. Он стал отсчитывать деньги, на удивление ловко, хотя у него и не хватало большого пальца на левой руке. Много лет назад палец ему отсекли в схватке с речными пиратами во время одной из контрабандных вылазок. На миг он оторвался от своего занятия, когда на палубе появился его седьмой сын, молодой человек лет двадцати шести, высокий для китайца. Парень неуклюже прошел по палубе. Над головами взвыли двигатели заходящего на посадку самолёта.
— Прибыли, Седьмой Сын?
— Да, отец, прибыли.
Четырехпалый У радостно хлопнул по перевернутому бочонку.
— Прекрасно. Тогда можем начать!
— Послушай, Четырехпалый, — задумчиво произнес Рябой Тан, указывая на кости. — Шесть, четыре и два — получается двенадцать, а это тоже дает три, волшебную тройку.
— Да-да, я понял.
Рябой Тан широко улыбнулся и указал на север и немного восточнее, где за холмами Абердина, на другой стороне гавани, в Коулуне, в шести милях отсюда, располагался аэропорт Кай-Так.
— Может быть, теперь тебе повезет, хейя?
05:16
Ещё только начало светать, когда из-за ворот номер шестнадцать на восточной оконечности терминала аэропорта вывернул джип с двумя механиками в комбинезонах и остановился недалеко от основного шасси «Янки-2». Трап оставался у самолёта, главная дверь была чуть приоткрыта. Механики — оба китайцы — вышли из машины. Один стал осматривать основные восьмиколесные шасси, другой так же тщательно обследовал переднюю стойку. Они методично проверили резину, колеса, гидравлические муфты тормозов, заглянули и в отсеки шасси. У обоих были фонарики. Тот, что осматривал главную стойку, вынул гаечный ключ и встал на одно из колес, чтобы посмотреть поближе. Его голова и плечи скрылись в фюзеляже. Через некоторое время он негромко позвал на кантонском:
— Айийя! Эй, Лим, глянь сюда!
Другой подошел и стал вглядываться вверх. На его белом комбинезоне проступили пятна пота.
— Там они или нет? Мне отсюда не видать.
— Возьми свой «стебель» в рот, брат, и спусти себя в канализацию. Конечно они там. Мы с тобой богатые люди. У нас на столе всегда будет рис! Но давай-ка потише, а то разбудишь этих измазанных в дерьме заморских дьяволов наверху! Держи... — Он передал вниз какой-то продолговатый, завернутый в брезент предмет. Приняв сверток, Лим быстро и бесшумно положил его в джип. Потом ещё один, и ещё один, поменьше. Оба покрылись потом и очень нервничали. Работали они быстро, но бесшумно.
Ещё сверток. Ещё один...
И тут Лим увидел, что из-за угла вылетел полицейский джип и одновременно из шестнадцатых ворот высыпало множество людей в форме. Среди них были и европейцы.
— Нас предали, — охнул он и рванулся прочь в безнадежной попытке обрести свободу.
Полицейские без труда перехватили его, и он остановился, дрожа от сдерживаемого ужаса. Потом сплюнул, проклял всех богов и замкнулся в себе.
Другой тут же спрыгнул вниз и вскочил на сиденье джипа. Но прежде чем он успел включить зажигание, на него навалились и надели наручники.
— Ну, «масляный роток»[27], — прошипел сержант Ли, — как думаешь, куда ты сейчас поедешь?
— Никуда, господин полицейский, это все он, этот тип, господин полицейский, этот сукин сын поклялся, что перережет мне глотку, если я не помогу ему. Я ничего не знаю, клянусь могилой матери!
— Врешь, ублюдок. У тебя и матери-то не было. Если не будешь говорить, отправишься в тюрьму лет на пятьдесят!