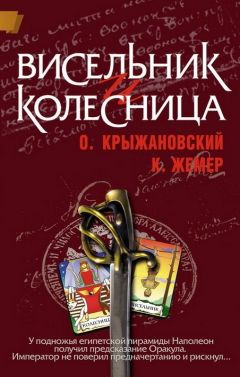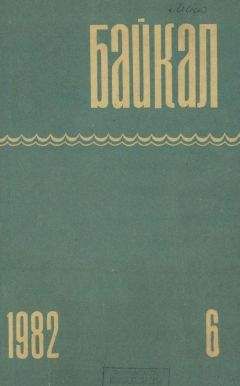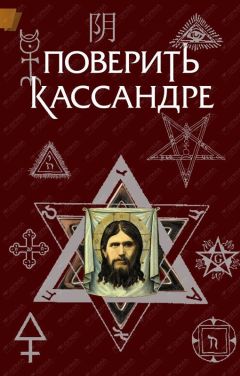Максим прикрыл глаза и вспомнил слова отца, сказанные при вручении сабли:
- От «крыжа» пошла наша фамилия. И, коли не будешь знать, как поступить - прочти то, что на нём написано.
С тех пор прекрасное оружие уже успело отведать крови. Иногда Максиму казалось, будто оно само кидается на врага и с тихой грустной трелью сносит головы. Тяжелая верхняя часть клинка, так называемая елмань – маленькая хитрость, подсмотренная у турок, многажды доказывала эффективность в бою. Шведские каски и кирасы разбивались тяжелой елманью. Французского же тонкого послевкусия клинок пока ещё не знал.
- Вы, я вижу, тоже не с пустыми руками отправляетесь в путь-дорогу? – отвлёкся от любимой сабли Максим.
На прихлопнутую крышку сундука вспрыгнул не удостоенный прежде внимания графский саквояж. Его содержимое, как и следовало ожидать, безупречно соответствовало вздорному духу и опасному образу жизни Американца. Каких только изрыгающих пули приспособлений там не было!
- Да у меня так, по мелочи, – объяснил Федор. – Самые любопытные экземпляры в багаж не влезали!
Из саквояжа на свет появились: безотказный кремневый пистолет, родившийся в парижской мастерской, принадлежащей семье Ле Паж, и еще один – весьма похожий, но чуть более облегченный образец; цельнометаллический шотландский пистолет работы Мардоха Дунского года эдак одна тысяча восьмисотого; морской британский, напоминающий «пищалку», прозванную на родине «пушкой королевы Анны»; пара-тройка безынтересных и незамысловатых казнозарядных пистолетов и двуствольный кремневый, чрезвычайно крупного калибра – Максим взглянул на клеймо – «Лондон, Дюрс Эгг». Все перечисленные экземпляры представляли примерно половину содержимого саквояжа.
«Тяжёлая, однако, сумочка», – подумал Крыжановский.
- Что же, mon ami! – вздохнул Толстой, внимательно наблюдавший за реакцией полковника. – Вижу, впечатления на вас я не произвел!
- Ни одного имени русского, – поморщился Крыжановский. – Лишь немцы поганые!
- Да ну? – изумился Толстой. – То-то я гляжу, в вашем coffre собраны исключително московские да тульские заводы!
Крыжановский только собрался возмутиться, но тут последовало еще более невежественное замечание.
- И вообще, – нарочно хмыкнул Толстой. – Вы что, помешались на саблях? Самое достойное оружие, можно подумать!
Недовольно прищурив глаз – еще бы! Коснулись любимого предмета! – Крыжановский сказал, как пропел:
- А вы прикáжете ворочать теми ужасными шпагами, что одарило нас командование? Или убивать на расстоянии, зная, что от пули нет защиты?
Глаза Толстого зло сверкнули – бретер в его нутре был едва ли слабее дворянина.
- Вы намекаете на ваш девиз? – спросил он. – Honor, дорогой друг, позволяет мне одинаково легко бить человеку в лицо кулаком, колоть шпагой или стрелять из пистоля! И разница лишь в том, что в Империи пистоли традиционны! Как вы, наверное, знаете, вызовщиком почти всегда являюсь я сам! Значит, оружие выбирает мой визави[47]! Значит…
… Значит, – перебил его Максим, – примите подарок, уж не побрезгуйте, граф. Мало ли, пистолет откажет. А клинок – никогда! С этими словами он протянул Американцу ту замечательную саблю, что первой появилась из дорожного чемодана.
Граф принял её, одарил Максима искрой во взгляде и, раскрыв свой саквояж, сказал просто:
- Выбирайте.
Полковник взял себе оба «ле пажа».
- Простите, mon ami! – сказал граф, улыбаясь и прижимая руку к сердцу. – Я запомню: Le autel et l'honneur !!
- La religion[48]! – поправил Крыжановский.
На пороге Толстой сказал: «Как вам угодно!», и оба вышли под набухшее дождем вечернее небо.
Через дорогу они сразу же приметили известного своими пьяными штуками генерал-майора Семенова, поддерживаемого в устойчивом положении усилиями ординарца. Последний, безусый ещё мальчишка, что есть сил пытался не пускать начальника в земляную избёнку, где, как было известно Максиму, квартировала семья маркитанта. Генерал зычно ревел и ломился в бревенчатую дверь, натурально походя на медведя – неуклюжего до времени. Дверь не поддавалась – видимо изнутри подперли чем-то тяжёлым.
Завидев вышедших на крыльцо дуэлянтов, Семёнов тут же оставил избу и стал радостно размахивать в воздухе ручищами, чем ещё больше напомнил косолапого. Адъютант облегчённо вздохнул.
Толстой поморщился и тихо обратился к Максиму:
- Теперь его превосходительство будет говорить глупости, а моё сиятельство станет отвечать. Прошу вас, полковник, не придавайте этому значения!
- Что же вы, Василий Игнатьевич, – много громче обратился Толстой к подошедшим, – все еще не отправились к madam douce?
- Mon ami Fedoras! – вскричал генерал радостно, а Толстой зло шепнул: «Сам ты «федорас»!»
- Mon ami Fedoras! – повторил бригадир и прослезился.
Он безуспешно пытался схватить руку Толстого, но тот ловко уклонялся, делая вид, будто указывает дорогу. Куда дорогу и зачем, несущественно.
- Граф! – тихо сказал Крыжановский, – если он вам сейчас скажет какую-нибудь колкость, не смейте и думать, чтобы сделать вызов!
Толстой отвлекся, а генерал, воспользовавшись этим, поймал его ладонь.
- Ешута!
Ординарец испуганно вздрогнул.
- Ешута! – заорал генерал громче прежнего. – Граф! Требую окончания историйки!
- Давайте в следующий раз! – ответил Толстой, высвободил, наконец, руку и кисло возразил:
- Окончания попойки, а не историйки вы требуете!
- Позвольте, граф! – запротестовал Семёнов. – Анекдот хорош концом! Без концовки – это и не анекдот вовсе!
- Ну, хорошо, monsieur, – ядовито прошипел Толстой и открыл, было, рот, чтоб окончить историю.
- Граф!
Толстой закрыл рот.
- Граф, – повторил Крыжановский, – смею предположить, с прошлого раза финал истории изменился?
- Да, полковник, – смиренно ответил Американец, хотя блеск в глазах отвергал малейшее смирение, и повернулся к Семёнову.
- Право, генерал, уже пора домой! Какое вам дело до госпожи Ешуты? Ну, лежала и лежала[49] – таких красавиц всегда было вдосталь еще со времен Александра Великого!
- Или раньше, – пробормотал бригадир.
- Конечно, раньше! – кивнул Толстой. – Пойдемте, я провожу вас! Эй, прапорщик! – махнул он ординарцу, – Ну-ка, подставляй плечико!
Крыжановский остался дожидаться посреди улицы.
- Куда-то денщик ваш помчался, – пробормотал возвратившийся Толстой, – право слово – чистый заяц, только пятки мелькали.
- Илья? – удивился Максим. – Вот уж не знаю! Куда бы ему направиться? Обычно сиднем сидит в избе, добро сторожит.