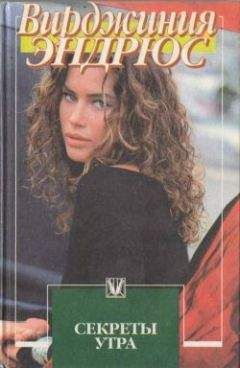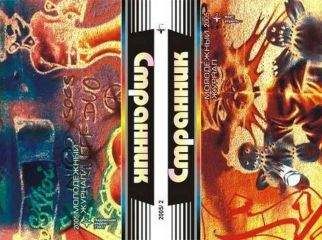— Помнишь… Прямо Божие чудо, что я тебя здесь встретил. Мы с тобой как бы свояками не стали. Мой Володька совсем без ума от твоей дочери Светланы, такие сумасшедшие письма мне пишет…
— Где она?.. Светлана?
— Та-та-та… Болван я, болван. Может быть, и говорить тебе этого не следовало. Этакая я скотина, не догадался, что они, и графиня Тамара Дмитриевна и Светланочка, живут под девичьей фамилией Сохоцких… Я думал потому, что в Польше так удобнее, чтобы не русское имя. А вы что же?.. Разъехались? — вдруг смутился старик.
— Тамара Дмитриевна с дочерью бежали от меня.
— Вот как… Володя мне про это ничего не писал. Они ему ничего не говорили…
— Они не говорили, почему ушли от меня? — волнуясь внутренним волнением, спросил Бахолдин. Помимо воли Ядринцев был приятен ему воспоминаниями того детства, когда честолюбивые мечты его не шли дальше того, чтобы быть вице-унтер-офицером в роте, и когда он понимал чувства товарищества.
— Нет… Ничего не говорили… А ты почему здесь? Болен? — деликатно переменил разговор Ядринцев.
— Да, я очень болен. Сердце совсем плохо.
— Ничего, брат. Здешние воды чудеса творят. Тут Бог излил свое милосердие на людей. Ты ходить-то можешь?
— Немного, да.
— Пойдем, я тебе покажу кое-что, и ты поймешь, что вся твоя болезнь — пустяки.
11
Они пошли тихими шагами по широкой аллее под гору. Опять Ядринцев «взял ногу» и напел с лихим былым шиком кадетского запевалы:
Рано утром енералы
В липартаменты спешат.
Сам он красный, с заду ясный.
И наплечники горят.
— Да, брат, вот мы с тобой и сами стали генералами, а только ни «липартаментов» у нас нет, ни спешить нам некуда… И наплечников давно нет… А помнишь?.. Однокашники ведь мы с тобой, однокорытники… Помнишь, как в сумерки зимнего дня выстраивался, бывало, наш «старший возраст» в воротах корпуса и Кольдевин… Ты Кольдевина-то, ротного, помнишь?
— Помню.
— Кольдевин командовал: «Ряды вздвой. Ружья воль-но. Шагом… Марш…» А гвардейские барабанщики и флейтисты ударят «козу»… Ах, тогда «коза» нам казалась слаще оперы. Всего триста шагов и за маленьким сквером тускло освещенный громадный манеж. Как все казалось славно, уютно и хорошо! Да… Точно вчера все было, а в сущности как давно. Мы разошлись с тобой после корпуса. И никогда потом не встречались. На войне слыхал я как-то, что ты в штабе, где-то высоко… Потом еще раз слыхал, будто большевики-солдаты тебя в Минске расстреляли.
— Это моего младшего брата, — глухо сказал Бахолдин. — А как ты сюда попал?
— Нас не спрашивают, как попал, а спрашивают, какой эвакуации.
— Ну, какой же?
— Я — Новороссийской… В Крым меня не взяли. А в добровольцах лихо поработал. Я этим дьяволам под Царицыным немало наложил… Да, что тут долго разговаривать. Чудом спасся, чудом выжил, чудом живу. Все милосердием Божиим.
Они перешли по широкому мосту через мирно струящую мутные волны речку. За рекою был как бы обширный двор, образуемый низкими тяжелыми каменными зданиями ванн. Посередине этого двора возвышался высокий и тяжелый, из дикого камня сооруженный водоем. Грубо обтесанные, под статуи времен Галльских войн Юлия Цезаря и первых императоров барельефы поддерживали края. В водоеме бил пенистый фонтан. И от него в воздухе разносилось влажное тепло.
— Смотри и читай, — сказал Ядринцев, подводя Бахолдина к водоему. — Читай и ты поймешь, что твое сердце в надежных руках, что тебя ждет исцеление.
Грубо произнося по-немецки, Ядринцев прочел высеченную старинными немецкими буквами надпись по краю бассейна:
— Auf Gottes Geheib, aus der Tiefe geboren der lebenden Leiden zu lindern erkoren… [5] Здесь, как и везде, Бог. С Его помощью твоя болезнь пройдет… Ты видишь здесь Его особенное милосердие.
— Ты так говоришь о Боге, точно ты Его сам видел, — сказал Бахолдин с легкой иронией.
— Мы еще в корпусе у батюшки Середонина учили: «Бога нигде же виде никто же, на Него же невозможно взирати…» Бога никто не видел, ибо Он везде. Посмотри кругом. Бьет этот фонтан. Это Бог. Он тут, подле нас. Он слышит наши слова. Он знает наши мысли…
Ядринцев повел Бахолдина назад, к парку. Остановился у моста, возле кустов сирени и жасмина.
— Чувствуешь, как пахнет сирень? Это Бог насадил ее нам на радость. Слышишь, птица пропела короткую песню? Это она молитву вознесла к Творцу неба и земли…
Прошли за мост, перешли круглую площадку, обсаженную тополями, и вышли на открытое место.
Из города несся мерный печальный перезвон. Над курзалом возвышалась в зеленых лесах гора Johannisberg, за нею пламенело небо. Солнце садилось.
— На колокольне бьют Angelus, — сказал Ядринцев. — День отходит в ночь. Когда-то при звуках этого звона все останавливались, складывали руки и молились Творцу. Молились в поле, окончив трудовой день, молились в хате, готовя ужин для главы семьи, молились в городе. На минуту мысль возносилась к Богу… Теперь этого нет… Звенит джаз-банд и рычат, носясь, автомобили… Материалисты изгнали Бога. Они думают, что все это само образовалось, по каким-то химическим, им известным законам. Невежды они. Те, что стояли, молитвенно сложив руки, и слушали Angelus, были мудрецы. Мир идет не вперед, но назад. Те люди знали тихое счастье молитвы. Теперешние несчастны в своей гордыне и зависти.
— Тебя послушать… Совсем проповедник.
— Я не проповедник, а человек, знающий Бога, испытавший на себе Его милосердие, видавший чудеса.
— Ты, действительно, видел чудеса?..
— Да, милый мой, я видел чудеса и немало… Да вот тебе… После развала фронта, я с семьей очутился в Кисловодске. Там набилось генералов и этого самого буржуя несть числа. Пришли большевики. Начались, как водится, выемки, расстрелы. Раз ночью будят. Стук в дверь: пришли с обыском. Солдаты и с ними стройный, молодцеватый, сразу видно офицер, молодой человек. Конечно, без погон. «Вы, — говорит, — Ядринцев?» — «Ядринцев», — говорю я… — «Генерал?» — «Генерал». — «Придется вас побеспокоить. Обыск сделать. Насчет оружия и переписки». Им, чертям полосатым, все тогда казалось подозрительным. Жена в халатике села в кресле в углу, я присел на постель, закурил, взял книгу.
«Делайте, — говорю, — что вам приказано».
«Товарищи, — говорит офицер, — вы осматривайте ту комнату, а я буду смотреть здесь».
Сразу взял он со столика жены бювар. А в том бюваре было письмо моей жены, написанное Варваре Михайловне Дуварской, моей тетке. Ждало оказии для отправки.
«Это, — говорит, — что такое?»
Я говорю: «Сами видите, письмо».