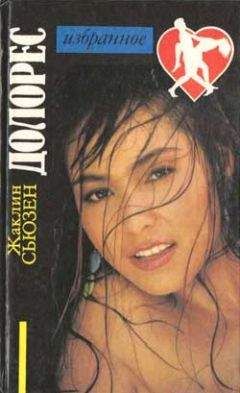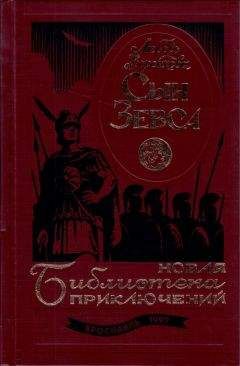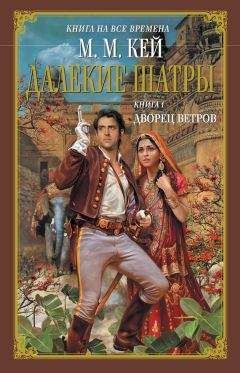Туман шел по едва приметной дороге не спеша, а хозяин не торопил. Он никогда не торопил лошадь, полагаясь на ее волю, оттого и прежний Гнедой, и нынешний мерин Туман исправно несли свою лошадиную службу, по-своему определяя, где повернуть, а где остановиться.
У болота Данила распряг мерина, взял под уздцы, чтобы шагнуть в мутную водяную жижу.
Резкий винтовочный выстрел и толчок в левое плечо услышал и ощутил одновременно. Лошадь заржала, дернулась, и показалось Даниле, что был и еще один выстрел, но оружейный, причем прозвучавший где-то со стороны.
Он удержал готовую вздыбиться лошадь, но напрягся всем телом, словно проверяя, насколько хватает у него сил, чтобы устоять на ногах.
И снова прозвучали винтовочные выстрелы, вперемежку с ними еще один оружейный и, наконец, последний — оружейный.
Выстрелы его мозг зафиксировал с профессиональной точностью солдата и охотника, а в голове обозначилась только одна-единственная мысль об острове, до которого ему надо добраться во что бы то ни стало.
Старик Воробьев застал друга в полубессознательном состоянии, но упорно державшегося на ногах. Левая сторона тела от плеча была залита кровью.
Он помог Даниле высвободить здоровую правую руку и опуститься на сырой болотный мох, клок которого подсунул под расстегнутую рубаху, и как бы заткнул им рваные раны спереди и сзади Данилова плеча.
Пуля прошла навылет прямо под ключицей и, видимо, не задела сколько-нибудь важных органов, но кровь надо было остановить, и сделать это мог только свежий болотный мох, целебная сила которого была известна охотникам с давних пор. На него и уповал старый охотник, и через некоторое время мох действительно сделал свое дело, вобрав в себя какое-то количество человеческой крови. Старик тут же заменил его свежим.
Данила не мешал ему, пребывая в сознании и понимая, что лучше Воробья сейчас ему лекаря не найти.
— Это ты трижды стрелил? — хриплым ослабевшим голосом спросил наконец.
— Я, Афанасьич, я стрелил. Уложил всех троих гаденышей. Тока не поспел упредить первый выстрел, — как бы оправдывался перед другом.
— Не-эт, старый, в самое время поспел, — не согласился Данила. — Не окажись ты на своем месте, я бы счас в болотине валялся…
— Здря ты не послушал меня…
— Зря-зря… Знать бы, где упасть, дак соломки бы постелил… И кто же тебя надоумил возвернуться? Иль сам додумал?
— Племяш твой, Степаныч. Мотри, грит, за им, Евсеич. Пострахуй ево…
— На остров нам надо. Изба там у меня и весь припас. Отлежаться…
— Кака изба? — недоумевал Воробьев. — Болота вить тамако, утопнем?.. — он не знал тайны Белова.
— Ниче, старик. Туман дорогу знат, ты тока подмоги мне взять его под уздцы, он и приведет… — И попросил, приподнимая голову: — Подмоги…
Не переча другу, Воробьев помог ему приподняться, на правую здоровую руку под самую морду лошади намотал уздечку и слегка хлопнул мерина по крупу. Напрягшись, так как хозяина надо было тащить почти волоком, лошадь шагнула в болотину. По привычке что-то бормоча про себя, старик побрел следом, зорко следя за тем, чтобы Белов не завалился. Но Данила переставлял ноги, а мерин упрямо тащил его по одному ему ведомому пути через болотную жижу и слякоть.
И люди, и лошадь то пропадали в легком тумане испарений от бивших из глубинных недр земли горячих источников, то начинали маячить снова, пока не исчезли совсем, и никто бы не сказал — дошли ли они до желанного острова или канули невозвратно.
Одно только и можно было бы утверждать наверняка, что сия болотная хлябь была здесь и сто, и тысячу лет назад и во все времена находились люди, которые отваживались пройти этот зыбкий путь, чтобы вновь ощутить под своими ногами земную твердь. А что их гнало сюда, чего искали и от чего спасались — вопрос особый, на который уже никогда не ответят ни таящая смертельную опасность мутная болотная жижа, ни утыканная гнилыми кочками с ловушками трясины бесприютная однообразная местность, ни редкие плешины немыслимо изогнутых тощих и крючковатых березок.
* * *
Стариков на острове нашли, обеспокоенные долгим отсутствием вестей о дорогих им людях, Владимир и Николай, спустя почти неделю. Данила пробовал самостоятельно вставать с постели, а старый Воробей хлопотал вокруг своего друга, и казалось, ему никогда не будет сносу.
Добавим к сказанному и то, что Людмила Вальц сообщила в эти трое суток по телефону Владимиру о своей беременности, чем привела его в состояние растерянности и какой-то тихой радости, и всякий, хорошо знавший его доселе, удивился бы происшедшим в нем переменам — это уже был другой Владимир Белов, словно переросший себя самого прежнего, как в свое время перерастает сын отца, а подмастерье мастера.
И все в этих диких присаянских краях пошло своим чередом.
И будто сорвалось осенним листом беловское «И — добро» — отлетело и закружило над тайгой, над горами и впадинами, над покрытыми испарениями болотными хлябями и над всем, что было здесь дорого сошедшим в могилки Ануфрию и его мученически сгибшему семейству, а также Афанасию, Степану, Саньке и что всегда будет дорого ныне живущим корешкам крепкого беловского дерева. Отлелело, но не отпало навсегда, а лишь только для того, чтобы возвестить о добрых переменах и возвернуться, пасть у светлого окошка выселковского старого дома, где снова за накрытым столом собралась возрастающая беловская родня.
«И — добро», — скажем и мы. И тихо отойдем в сторону, чтобы не мешать людям жить.