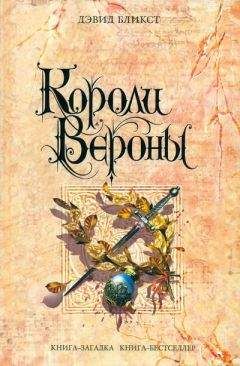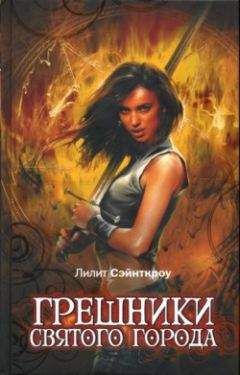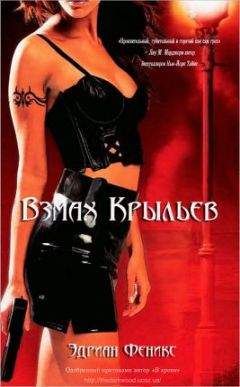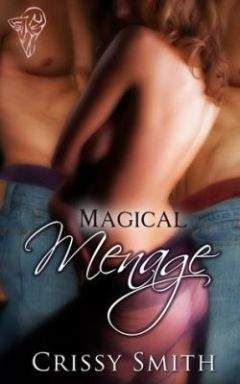— Славно поработал. Пойди умойся да смени рубашку.
Вскоре Поко уже стоял позади своего господина в шатре Кангранде и наблюдал, как рассаживаются сам Кангранде и четверо его военачальников. Кастельбарко уселся напротив Нико, Баилардино да Ногарола подле него. Кангранде занял место во главе стола, Пассерино Бонаццолси — в дальнем конце.
— За мудрых кальватонезцев, — провозгласил Кангранде, поднимая кубок. — Я очень рад, что не пришлось соперничать с Оттоном.[61] Пассерино, скажи, если бы я покончил жизнь самоубийством из-за поражения в битве, ты бы, подобно военачальникам Оттона, бросился в мой погребальный костер?
— Я бы бросил туда Нико, — отвечал Пассерино.
— Да, пожалуй, этого было бы достаточно, — кивнул Кангранде.
Нико хмыкнул.
— И это вместо благодарности моему серебряному языку, который открыл для вас ворота Кальватоне, словно девичий бутон расковырял.
— Тогда уж Кальватоне — не девушка, а дешевая девка, раз так легко уступила, — заметил Баилардино.
— Притом уродливая, — добавил Пассерино. — Видели, в каком состоянии у них ратуша?
— Бедность — не порок, — вмешался Кастельбарко.
— Конечно, не порок, а нехватка гражданской гордости.
— Виноват Кавалькабо, — сказал Кангранде. — Скряга и фанатик. А его бесспорный наследник, Корреджо, в десять раз хуже. Говорите что хотите о других гвельфах — они кто угодно, только не скупцы. Посмотрели бы вы на пригороды Флоренции, которые равны по статусу Кальватоне!
— Корреджо не так уж плох, — возразил Баилардино. — Его племянница просватана за моего брата.
— Ну, в таком случае он просто соль земли, — съязвил Нико.
— Если уж речь зашла о Флоренции, — произнес Кастельбарко, прежде чем Баилардино успел проглотить наживку да Лоццо, — Джакопо, говорят, флорентинцы решили простить твоего отца. Это правда?
Кангранде рассмеялся.
— Да, Джакопо! Расскажи им, расскажи!
Расплывшись в улыбке, Поко сделал шаг вперед и начал:
— В июле мой отец получил письмо…
— На имя Дуранте Алигьери из цеха аптекарей,[62] — вставил Кангранде. — О поэзии ни слова. Извини, Джакопо. Продолжай.
— Так вот, в письме отцу предложили амнистию. Он может вернуться во Флоренцию, когда пожелает.
— И как это они сподобились? — произнес Пассерино.
— Нет-нет, подождите. Чем дальше, тем заманчивее, — снова перебил Кангранде. — Они условия ставят.
— Условия? Интересно, какие?
Поко закатил глаза.
— Во-первых, отец должен выплатить огромный штраф, во-вторых, принять публичное покаяние.
— И в чем же оно будет заключаться? — спросил Пассерино.
Кангранде опередил Поко с ответом.
— Ему нужно вползти в городскую тюрьму на коленях, а из тюрьмы выйти одетым во власяницу и дурацкий колпак, со свечой в руке. В таком виде нужно пройти по улицам до баптистерия Святого Джованни — святого, в честь которого Данте назвал своего умершего первенца, которого, кстати, старейшины ему не позволили похоронить на родине. В баптистерии Данте следует объявить себя виновным и раскаявшимся и молить старейшин о прощении.
— Полагаю, Данте отказался от подобной милости, — произнес Пассерино.
— Ко всеобщему изумлению, да.
Все засмеялись. Поко, раздосадованный тем, что Скалигер испортил ему весь рассказ, собирался уже уйти в тень своего синьора, как вдруг Баилардино спросил:
— А что твой брат, Джакопо? Как у него дела?
— Это ты интересуешься или моя сестра? — не преминул съязвить Кангранде.
— У меня, как ни странно, случаются и собственные мысли, — парировал Баилардино. — Итак, Джакопо, что поделывает твой брат?
— Он поступил в Болонский университет, — сказал Поко. — Надо думать, дела у него неплохи.
— Я позаботился, чтобы у него был доход, — добавил Кангранде самым что ни на есть ровным голосом. — Точнее, приход. Небольшой, в Равенне.
— Ты мог бы просто вернуть его, — заметил Кастельбарко.
— А еще проще было бы выслать тебя. А то ты много болтаешь.
Повисло неловкое молчание. Прервал его Нико.
— Я рад, что мы продвигаемся. Если мы возьмем Кремону, все разговоры вокруг Монтекатини сами собой прекратятся.
— Побойся Бога, Нико, — произнес Пассерино. — Угуччоне делла Фаджоула — наш друг и союзник, а ты ему одной победы жалеешь. Тем более, что ему нужно на одну победу больше, чем нам.
— Десять тысяч убитых и семь тысяч пленных, — присвистнул Баилардино. — Не так уж плохо.
— Без людей Кастракани он бы не справился, — сказал Кастельбарко. И добавил специально для Кангранде: — Вам никогда не приходило в голову, мой господин, что эти продажные кондотьеры еще себя покажут? Как только лето начинается, они выбирают, какая война им больше по нраву. Многие специально, год повоевав за одного правителя, на следующий год нанимаются к его противнику, чтобы война подольше не кончалась. Мы тратим на них огромные суммы, но ведь преданность за золото не купишь.
— Верно, — кивнул Кангранде. — Нико, скажи, за что можно купить преданность?
— За землю, — немедля ответил Нико. — За землю, и еще раз за землю. Одни сражаются в битве, а то и в целой войне, во имя князя или Господа. Но если вы хотите, чтобы человек сражался за вас до конца дней своих, дайте ему землю. Взять хоть Капуллетто. Вы наполнили его кошель золотом через край, вы пожаловали ему титулы, однако ничто не могло привязать его к вам крепче, чем поместье в окрестностях Бардолино. Теперь он предан вам более, чем если бы был вашим сыном.
На лице Кангранде отразилось сомнение.
— Хм. Поживем — увидим. Во всяком случае, Капуллетто ответил щедростью на щедрость. Пир, который он устроил в честь святого Бонавентуры, был просто великолепен. Я давно так не плясал.
— О да, праздник удался, — подтвердил Кастельбарко, передавая поднос. — Людовико заверил меня, что намерен каждый год устраивать нечто подобное.
— Позор, что Гаргано там не было, — произнес Баилардино.
— Его приглашали, — возразил Кангранде. — Я лично проверил. Однако он решил не ходить. Сказал, что не хочет портить людям удовольствие. Позор, самый настоящий позор.
Залпом осушив кубок, Нико принялся вертеть в руках нож.
— А знаете, синьоры, кто мне больше всех понравился? Бонавентура и его жена. Мне говорили, что она сумасшедшая; никогда не слышал такой великолепной словесной перепалки, как у этой молодой четы!
— Да уж, они все бельишко успели на людях прополоскать, — подхватил Баилардино и потянулся, чтобы вновь наполнить кубок Нико. — Выходит, праздник-то немного и в честь молодого Петруччо — он ведь Бонавентура. А его сумасшедшая жена, кажется, падуанка?