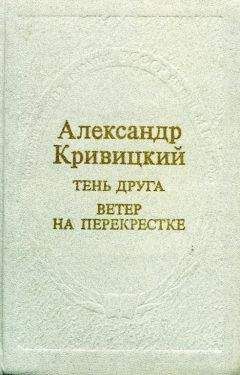Мы отдали все, что могли. Лучшие из нас погибли,в бою, многих мы бросили на сорокаградусном морозе, чтобы спасти тех, кто еще держался на ногах. Но пока не хочу об этом думать. Сейчас нужна передышка, чтобы дать отдых измученным нервам и исстрадавшемуся телу, чтобы еще раз оглянуться назад. А потом попытаемся забыть навсегда все, все, кроме одного — ненависти к фашизму.
6Ревелли говорил негромко, ровно, но меня не обманывал его тон. В нем все кипело, и все же привычка к сдержанности брала свое. Его волнение выдавали руки. Он мял сигарету, сделав две-три затяжки, бросал ее в пепельницу, брал другую и все время до синевы в пальцах сжимал зажигалку.
Я спросил:
— Вы знаете стихотворение Светлова «Итальянец»?
Нет, он не знает этого стихотворения, никогда не слышал имени поэта.
— А правда, есть такие стихи? Вы помните их? Прошу вас, прочтите!
Я стал читать, и мой спутник Норман Моцатто переводил их вослед мне, строку за строкой.
Черный крест на груди итальянца, —
Ни резьбы, ни узора, ни глянца,
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...
Уже первая строфа потрясла Ревелли. Он опустил голову, сжал виски руками, положив локти на край стола, — так и слушал все стихотворение.
Молодой уроженец Неаполя,
Что оставил в России ты на поле!
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?
Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком!
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле!
Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля!
Здесь я выстрелил! Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.
Разве Среднего Дона излучина
Иностранным ученым изучена?
Нашу землю — Россию, Расею —
Разве ты распахал и засеял?
Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далеких колоний,
Чтобы крест из ларца из фамильного
Вырастал до размеров могильного.
Я не видел опущенного к столу лица Ревелли, но его плечи задрожали, и я скорее почувствовал, чем услышал что-то похожее на хрип или стон.
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!
Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...
Моцатто перевел последнюю строку, и наступило молчание. Ревелли поднял голову, устало комкая рукой лицо, глухо спросил:
— Когда написаны эти стихи?
— Тогда же, в тысяча девятьсот сорок третьем.
— Какое благородство! — выдохнул Ревелли. — И какая правда! Мне нечего вам больше рассказать. Вы все знаете. Ваш поэт выразил все.
Я ничего не ответил. И Ревелли, помедлив, снова заговорил:
— Бедные альпийские стрелки, сколько их полегло!.. Мы бросили вас, не предав земле. А повозки этих свиней-гитлеровцев, а колонны беглецов довершили дело. Они шли по вашим простреленным, замороженным телам...
Туманная, снежная равнина без начала, без конца. Она поглотила всю мою прошлую жизнь. Где-то, на краю света, был Кунео.
Я ощущал себя жалким остатком человека. В этом полусумасшедшем окружении я обращался к самому себе. Люди громко произносили свои внутренние монологи. Я говорил с собой молча. Я проклинал фашизм — он был помпезен и ничтожен. Но на этой дороге я терял веру и в свою последнюю святыню — армию. Я обещал себе, что если останусь жив, то никогда не буду офицером. Теперь я хотел спасти только моих раненых.
Тридцатого января, когда мы вышли из окружения, тыловые немцы нас фотографировали. Их возмутил и позабавил наш несчастный вид. Можно было подумать, что катастрофа итальянской армии означала их победу, — они самодовольно показывали на нас пальцами, хохотали. Можно подумать, что их не били русские.
В Шебекино мы проходили мимо наших растерянных генералов страшным парадом вконец замученных людей. Мы отводили глаза от разъяренных морд в немецких мундирах и, глядя на другую сторону улицы, видели плачущих русских женщин. Их слезы не означали прощения нам. Нет, они оплакивали своих близких, и в их рыданиях мы слышали стоны наших жен и матерей.
Верховное командование возмущается тем, что многие солдаты продали в русских селах свое оружие, боеприпасы, экипировку. Но, боже мой, неужто оно не понимает, что люди хотят есть! Накормите их, а главное, не обкрадывайте, уменьшая и без того жалкий рацион, и вы увидите, что возмущаться будет нечем, не понадобится им грозить смертной казнью! И не выдавайте себя — не щеголяйте в мундирах с иголочки! Кто одет не в тряпье, как те, что отступали, тот сохранил свой багаж, а каждый сохраненный чемодан — это раненый, покинутый на произвол судьбы, это позор и подлость.
Уполномоченный Муссолини, некто Монкрези, сказал нам: «Дуче приветствует свои войска и посылает вам вагон яблок — это солнце Италии. Оно продолжает вам светить». Как всегда, напыщенно и ничтожно. Нам нужны были медикаменты, бинты, обувь, одежда. Нам прислали яблоки, да еще гнилые. Негодяи, никто больше не поверит вашей лжи, вы нам опротивели! Так думают те, кто пережил величайшую трагедию, в которую вы же их и ввергли. Ваши высокопарные, пустые слова оскорбляют память павших. Обращайтесь с ними к своим единомышленникам! Тот, кто участвовал в отступлении, больше не верит званиям и говорит вам: «Никогда не поздно с вами покончить!»
В Шебекино страдания альпийцев не кончились. Вместе с остатками других разгромленных дивизий они, повинуясь приказу, должны перебазироваться в район Гомеля. Но немецкое командование отказалось принять их на довольствие и не дало им транспорта. И вот толпы итальянских солдат снова в пути. Впереди еще шестьсот километров...
В середине марта тысяча девятьсот сорок третьего года мы возвращались на родину. 220 эшелонов уехало в Россию, 17 — вернулось. Это счет только альпийского армейского корпуса.
И вот мы в Жлобине. Я хорошо запомнил девятое марта на белорусской земле. В этот день перед строем жалких остатков моего батальона нам прочли приказ Гарибольди, командующего уже несуществующей армией в России. Приказ этот был утвержден самим Муссолини. Собственно, это даже не приказ, а строгая режиссерская разработка того, как мы должны себя вести в Италии и особенно что обязаны говорить.