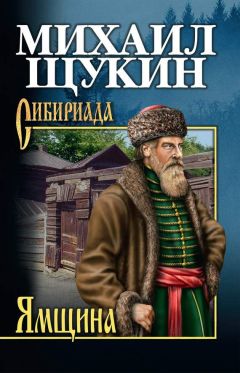На улице, охолонув на морозе, решился он пойти к Дюжеву и просить, чтобы тот на подарок ему шелку вырешил, а не сапоги. Направился к дому купца, но посредине остановился и передумал. Придется ведь объяснять — зачем перемена понадобилась? А как объяснить чужому человеку, если Митенька самому себе объяснить не мог.
За свою жизнь Дюжев много повидал народа. Всякого. На мякине его, стреляного воробья, не проведешь. Сразу приметил, что волосы у парня на голове разнятся, хоть и старался тот на правой стороне их ножницами подрезать, выровнять. «По бритому быстро растет, а все равно не сравнялось, недавно, видать, откочевал с острогу». Но вида не подал. Позвал парня за стол, чаю налил, блюдо с шаньгами поближе подвинул. Угощал и вспоминал — заряжено ли ружье? И Васьки, как на грех, нету. Ладно — заряжено, не заряжено — в любом случае пригодится, хоть для испуга. Сказал, что вина сейчас принесет, взялся за дверную скобу, чтобы выйти из горницы, но улыбчивый парень отложил надкусанную шаньгу и неразборчиво, рот-то занят был, выговорил:
— Ты, Тихон Трофимыч, не бегай, ружье не понадобится. И работников не зови, разговор у меня только к тебе имеется.
Дюжев вернулся и сел за стол напротив парня.
— А приметлив ты, Тихон Трофимыч, — продолжал гость. — Глянул на голову и сразу догадался.
Он пригладил волосы ладонью, допил чай и чашку на блюдце осторожно перевернул кверху дном.
— Благодарствую за угощение.
— Ты хоть скажи — как зовут, откуда?
— Откуда я — ты сам догадался. А зовут зовуткой, кличут анчуткой. Не все ли равно? Я и совру — недорого возьму. Хочешь Петром зови али горшком, только в печь не засовывай. А приехал я, Тихон Трофимыч, с письмом. Письмо привез.
Дюжев протянул руку — давай. Петр улыбнулся, покачал головой.
— Письмо у меня к тебе особое, не на бумаге писано. Тут оно, — дотронулся ладонью до головы, взъерошил жесткие, прямые волосы. — Слушай. Так письмо начинается. «Добрый день или вечер, купец Тихон Трофимыч Дюжев. Не удивляйся на мое послание и шибко не проклинай, когда узнаешь, кто его тебе посылает. Жизнь наша, считай, прожитая, жить нам осталось хрен да маленько, так что давай друг к дружке наберемся терпения. Зовут меня Илья Серафимыч Тархов, лучше сказать, звали так раньше. Служил я в России, в Костроме, почтовым чиновником, не удержался от соблазна и позарился на казенные деньги. Как дело было, рассказывать не стану — долго. Скажу, чем кончилось, — попал я на каторгу. А с каторги вышел мне указ на поселенье. Судьба на поселенье известная: холодно, голодно, а от работы по своей воле успел я крепко отвыкнуть. Приходят ко мне бродяги и говорят: пора, Зубый, на промысел выходить, иначе замрем. Сколотилось нас полтора десятка, меня атаманом кликнули, угнали лошадей у мужичков, сели и поехали в чисто поле. Хорошо порезвились. Но дошел слух, что местные мужички по начальству грамоту сочинили, чтобы нас, бродяг, власти под корень вывели. Ясное дело — мы за теми мужичками следом. Пока ехали, к нам еще один слушок привязался: у хозяина постоялого двора, Федора Калитвина, золотишко водится, бережет его для своей единственной дочери. Но мужик он крутой, бывалый, и на испуг не возьмешь. Что делать? Вспомнил я старые времена, пододелся чиновником и явился на постоялый двор. А следом за мной — тут уж судьба, ее и конем не переедешь — прибыли томский купец Кривошеин и приказчик с ним, по имени Тихон».
Дюжев тяжело навалился на столешницу, подался вперед, словно хотел ухватить гостя за грудки, но тут же и сник, стал шарить вокруг себя, словно искал опору. Попалась чайная чашка, он накрыл ее волосатой клешней, сжал, и она только хрустнула. Гость от резкого звука вздрогнул, но тут же наморщил лоб, вспоминая, и покатил дальше, как по писаному. Раскровенив осколком ладонь, Дюжев это не заметил, он внимательно слушал, не пропуская единого слова, а из крепко сжатого кулака быстро капали на столешницу темно-красные капли, словно перезрелая клюква сыпалась.
— «Все одно к одному складывалось. Кривошеин, оказывается, с пушниной приехал — еще приварок. К тому времени я и тайник у Федора разнюхал. Тут падера началась — свету белого не видать. Самое времечко для нашего дела. Встал я ночью, крадусь, чтобы ворота и двери открыть, и вдруг — шепот. Притих, слушаю. Приказчик с Федоровой дочкой шепчутся. И так они сладко шепчутся, такие слова любезные говорят, что у меня аж душа ворохнулась. У самого-то любви никогда не было, я с блядями возился, а они товар известный. Замер, уши растопырил, и глаза на мокром месте от умиления. Ни убавить, как говорится, ни прибавить. Но слезы — одно, а дело наше, разбойничье, — совсем иное: у нас свой закон, не жалостливый. Тому закону я и подчинялся. Ворота и двери раскрыл нараспашку, бродяги мои влетели, стрельбу подняли. Сам я к тайнику сразу сунулся, а боковушка, где голубки ворковали, за спиной у меня осталась. Надеялся, что не высунутся они и целы останутся. Не хотелось их крови принимать на руки. Откуда было знать, что девчонка каким-то моментом из боковушки выскочила. И налетела на пулю, дурочка. Золотишко, пушнину мы взяли, жалобу у мужичков вытащили — все, как надо, сделали. Ушли на дальнюю заимку, станок там держали. Через верных людей вином разжились, гуляли напропалую, досыта. И догулялись. Ночью нас обложили, давай щелкать, как зайцев в половодье на острове. Мне одному подфартило живым уйти, хотя по всем раскладкам чистая смерть выпадала. Однако ушел. Мало того, золотишко успел прихватить. С той добычи я ни копейки не брал, рука не поднималась. Она и нынче, добыча вся, целехонькая лежит. А где лежит, про то мой товарищ знает. Там и колечко девчоночье — на свадьбу, видать, припасал Федор. Вот и подобрался я к концу своего письма, Тихон Трофимыч. Жизнь моя на излете, и, по всему видно, откочует скоро грешная душа прямиком в огненную геенну, станет там мучиться до скончания века. Много за мной грехов накопилось, один страшнее другого. Но самый страшный тот, который на дворе у Федора содеял. Я ваши шепотки до сих пор слышу. А как услышу, душа саднить начинает, мучиться, хоть голову в петлю. Покаяться хочу. Знаю, что прощенья мне нету, но яви ты, Тихон Трофимыч, последнюю христианскую милость. Возьми золото Федора, поставь на него церковь. Помнишь, девчонка говорила, что церковь для вас еще не построена. Так пусть стоит. Знаю, что ты ответить мне можешь. И заранее на любые твои слова согласный. Об одном молю, на коленях перед тобой стою, до самой земли кланяюсь, — сделай, как я прошу. Облегчи хоть на малую долю мою расплату. Остаюсь за сим виноватый кругом ранешний чиновник почтовый, Илья Серафимович Тархов, а ныне бродяга и разбойник Зубый. Прости меня, ради Бога, исполни, о чем прошу».