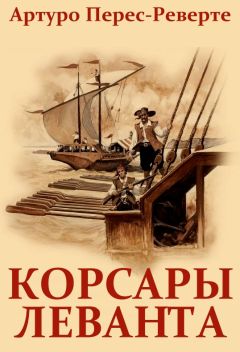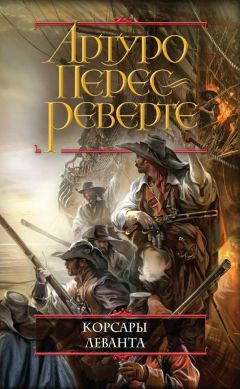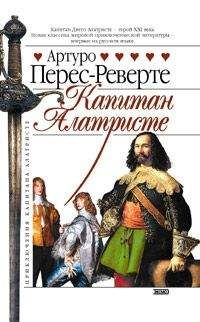— Нам тоже можно будет пойти? — спросил я.
Копонс посмотрел на меня, на капитана, опять на меня, а потом с видом полнейшего безразличия осведомился:
— И далеко ль собрался?
Я и взгляд его не моргая выдержал, и сам держаться постарался молодцевато, как подобает солдату, ответив с большим хладнокровием:
— Куда ж еще, как не с вашей милостью на вылазку?
Оба ветерана снова переглянулись, а Копонс в раздумье поскреб загривок.
— Как ты полагаешь, Диего?
Мой бывший хозяин глядел на меня изучающе и задумчиво. Потом, не отводя глаз, пожал плечами:
— Деньги лишними не бывают.
Копонс, всецело разделяя это мнение, заметил однако, что есть одна сложность: на подобные вылазки в едином порыве рвется весь гарнизон.
— Впрочем, — добавил он, — когда приходят галеры, берут людей и с них. Подкрепление. Так что момент для вас благоприятен. У нас многие маются от лихорадки, слегли в лазарет или так ноги еле таскают от здешней солончаковой воды — она хоть и в изобилии, да для питья непригодна. В общем, потолкую с Бискарруэсом, благо земляк и тоже воевал во Фландрии. Только язык — за зубами, никому ни слова.
Говоря это, он смотрел не на Алатристе, а на меня. Я не отвел глаза, постаравшись, чтобы он прочел во взгляде моем оскорбленное самолюбие и упрек. Копонс слишком давно и хорошо знал меня и мог бы обойтись без этого предупреждения. Арагонец понял ход моих раздраженных мыслей и на мгновение призадумался. Потом, обернувшись к Алатристе, пробурчал:
— Подрос щеночек-то. Клычки не шатаются.
Потом снова окинул меня взглядом с ног до головы, задержался на пальцах за ременным поясом, оттянутым слева шпагой, справа — кинжалом. Я услышал, как за спиной вздохнул капитан, и в этом вздохе мне почудилась легкая насмешка, смешанная с толикой досады.
— Ох, Себастьян, ты его еще не знаешь.
III. Вылазка в Уад-Беррух
Издали донесся собачий лай. Диего Алатристе, ничком лежавший на земле меж кустов, проснулся, повинуясь безошибочному чутью старого солдата, поднял голову, уткнутую в скрещенные руки, открыл глаза. Спал он недолго: может, всего несколько секунд, однако среди прочих солдатских навыков, въевшихся в плоть и кровь, числил он и умение спать где придется и сколько доведется. Ибо люди его ремесла редко могут сказать наверное, когда им в следующий раз выпадет минутка всхрапнуть, поесть или выпить. Или, наоборот, облегчиться. Вокруг, на склоне, среди неподвижных и безмолвных фигур несколько солдат именно этим и занимались, зная, вероятно, как рискованно получить пулю или клинок в брюхо, если брюхо это — полное. И Алатристе, расстегнув штаны, не замедлил последовать их примеру. «Запомните, господа солдаты, на пустой желудок драться лучше», — наставлял их некогда один из первых его сержантов, дон Франсиско дель Арко, впоследствии убитый в двух шагах от Алатристе в дюнах Ньюпорта: с дель Арко капитан, в ту пору едва достигший пятнадцати лет, ходил в конце прошлого века на голландцев и на французов, брал и грабил Амьен, что удалось на славу — вдосталь хлебнуть лиха пришлось потом, попозже, когда французы почти на семь месяцев взяли город в правильную осаду.
Делая свое дело, он задрал голову кверху. Кое-где еще посверкивали звезды, по небу на востоке уже разливался сероватый свет зари, но голые вершины холмов по-прежнему держали во тьме — такой, что хоть глаз выколи — шатры бедуинского становища в просторной долине, отстоявшей от Орана на пять лиг: проводники называли ее Уад-Беррух. Алатристе, затянув пояс со всей амуницией, застегнувшись, снова улегся на землю. Днем, когда африканское солнце устроит свое обычное пекло, он взмокнет в толстом колете, но сейчас он — как нельзя более кстати, потому что ночи здесь, черт бы их драл, несусветно, невыносимо холодные. Пригодится и старый нагрудник из буйволовой кожи. Рукопашная — она рукопашная и есть, независимо от того, с кем режешься — с турками, маврами или еретиками-лютеранами. Вот они, памятные знаки этих встреч: на лбу, на брови, на руке, на ноге, на бедре, на спине — и как только все на теле-то уместились? — общим числом девять, если считать след от аркебузной пули, а вместе с ожогом на предплечье — то и все десять.
— Разбрехалась, проклятая тварь, — пробормотал кто-то из лежавших поблизости.
В отдалении вновь залаяла собака. И ей тут же отозвалась другая. Скверно, подумал Алатристе, если это они не просто так, а учуяли солдат и сейчас перебудят обитателей становища. К этому часу отряд, заходящий с противоположной стороны долины, уже должен занять позицию, спешившись и оставив лошадей, чтоб, не дай Бог, ржанием своим не помешали нападению врасплох. Там — человек двести, и тут — примерно столько же, да еще полсотни могатасов: более чем достаточно, чтобы обрушиться на спящих и ничего не подозревающих кочевников, которых вместе с женщинами, детьми и стариками всего — то три сотни.
Все это Алатристе днем рассказали в Оране, а прочие подробности он узнал во время ночного шестичасового перехода, когда с разведчиками-могатасами впереди люди и лошади сторожко двигались во тьме по Тремесенской дороге: сперва строем, а после — россыпью, сначала — берегом реки, а потом, оставив позади лагуну, отшельничий скит, в здешних краях называемый морабитом, колодец и равнину, обогнули холмы с востока, прежде чем разделиться на две партии и залечь в ожидании рассвета. Ну так вот: обосновавшиеся здесь арабы из племени бени-гурриарана, земледельцы и пастухи, считались мирными маврами, которых испанский гарнизон обязывался защищать от враждебных племен при том условии, что они ежегодно в установленный срок будут доставлять в город определенные количества зерна и сколько-то голов скота. О прошлом годе, однако, они и припоздали, и недопоставили — по сию пору остались должны еще примерно треть оговоренного, — но поклялись всем святым, что в возмещение недоимок пригонят скотину не весной, а сейчас. Обязательства свои так и не выполнили и, по слухам, намеревались сняться и перекочевать куда-нибудь подальше от Уад-Берруха, в такое место, где испанцы не достанут.
— Вот мы их и поздравим с добрым утром, прежде чем они смоются, — сказал, помнится, главный сержант Бискарруэс.
Человек этот, арагонец родом, вояка по ремеслу и склонности души, пользовался доверием губернатора Орана и был самым что ни на есть образцом нашего африканского воинства: этакий кремень, лицо будто выдублено солнцем, пылью, пуще же всего — самой жизнью, которую вел он в беспрестанных боях сначала во Фландрии, а потом — в Африке, где за спиной у тебя море, до короля далеко, до Бога высоко, тем паче, что Он, по всему судя, развлечен иной какой-то докукой, зато до мавров рукой подать, — особенно, если в руке этой шпага. Под началом у него служили люди, которым, кроме как на добычу, надеяться было не на что: отпетые висельники, отъявленные головорезы, опасный каторжанский сброд, в любую минуту готовый дезертировать, взбунтоваться или устроить поножовщину, — и он умудрялся держать их в узде. Словом, был он крутенек, но не спесив, а продажен не более, нежели все прочие. Так описал его Себастьян Копонс перед тем, как на исходе первого нашего дня в Оране отправиться к Бискарруэсу. Мы нашли его в одном из казематов цитадели, перед картой, расстеленной на столе и придавленной по углам кувшином вина, свечой в шандале, кинжалом и пистолетом. Здесь же находились еще двое: высокий мавр в белом бурнусе и некто смуглый, носатый, худосочный, с подстриженной бородкой — этот был в испанском платье.