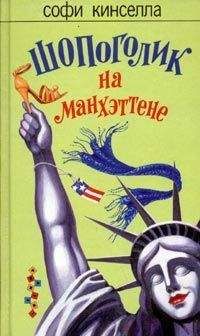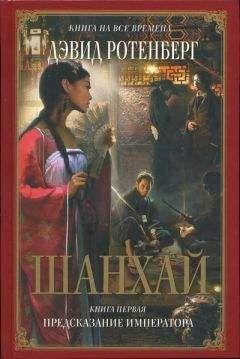Двери старого театра распахиваются. Публика и Сказитель с изумлением видят, как по центральному проходу, пританцовывая, движется Дракон из бамбука, бумаги и шелка. В двадцати футах от сцены он останавливается.
Тишина.
Сквозь прорези в глазах Дракона старый император видит изображения Семидесяти Пагод и поднимает голову чудища вверх. Он видит стоящего на балке Лоа Вэй Фэня, затем Конфуцианца, застывшего возле Мао, и Цзян, держащую на руках японскую красавицу дочь. Он кивает, и голова Дракона делает то же самое.
— Не сейчас, — говорит он тихо. — Скоро, но не сейчас.
Дракон поднимается на сцену.
Сказитель отступает назад.
Дракон проходит прямо над струей пламени, бьющей из сцены, и с гулким звуком «вуффф» его охватывает огонь. Он описывает большой круг, а потом бежит к сцене прямо на портрет Мао и пробивает его.
Сказитель чувствует, как усиливается жар. Он опускает взгляд. Пламя, охватившее Дракона, подожгло полы его костюма.
Сцена превращается в озеро танцующего огня. Он смотрит вверх и там, в проеме люка, видит лица Максимилиана и внука. Он видит Лоа Вэй Фэня, стоящего на балке стропил. Он ощущает присутствие в глубине зала Цзян и ее японской дочери. Он видит стоящих за кулисами мальчика-золотаря и Резчика. И — Дракона, который объят пламенем и, словно безумный, мечется по сцене.
Затем он чувствует что-то горячее на лице и понимает, что от невыносимого жара загорелся его грим. В ноздри заползает запах горящей плоти, но ему все равно. Силуэты Семидесяти Пагод словно навечно отпечатались на огромном шелковом портрете Мао Цзэдуна. И тут он видит, как из огня выходят фигуры. Они приближаются к нему. Первая Сказительница, кроткий рыбак, рыжеволосый фань куэй, а за ними — еще, и еще, и еще. Они протягивают к нему руки, и он идет им навстречу.
А потом огонь перекидывается на портрет Мао. Сначала вспыхивает внешнее кольцо и горит по часовой стрелке, затем — внутреннее, и огонь по нему распространяется против часовой стрелки. И Семьдесят Пагод исчезают, как кровавые слезы Ли Тяня в темнеющем небе. Как сны на рассвете.
* * *
Максимилиан и его сын добрались до причала на Бунде как раз вовремя, чтобы подняться на борт большого корабля Британской восточно-индийской компании. Максимилиан держал сына за руку. Паруса поймали ветер и надулись в сторону правого борта, за которым медленно проплывали здания, выстроившиеся вдоль набережной.
— А дедушка…
— Он теперь с древними, — сказал Максимилиан.
— А мы?
— Мы едем домой.
— Но мой дом — это Шанхай, отец.
— Да, это так, сынок. Твой дом — здесь.
— Я вернусь сюда, отец, — сказал мальчик.
Максимилиан посмотрел на сына. Лицо мальчика приобрело новые, жесткие черты. Его глаза были темными, как обсидиан.
— Я скоро вернусь сюда, — повторил он.
Максимилиану было трудно смотреть сыну в глаза. Он чувствовал правду в словах мальчика и ощущал, как приближается волна боли.
— Ты сотворишь здесь великие дела, — сказал он. — Я уверен в этом. — Посмотрев на здания Бунда, он продолжил: — Но мне и таким, как я, этого не дано. Время, отпущенное моей семье в Поднебесной, подошло к концу. Я последний из Хордунов, кто жил в этом великом городе.
А потом он заметил, что сын сжимает в руке цветок — живую красную гортензию.
— Откуда у тебя это? — спросил он.
— Мальчик-золотарь подарил мне его на счастье.
Максимилиан кивнул. Прекрасный цветок от мальчика-золотаря. Очень по-китайски.
* * *
— Возможно, пришло время вернуть Бивень к излучине реки, — проговорил Резчик, когда они карабкались на вершину холма.
— Нет, время еще не настало, но когда-нибудь оно придет, — ответил Лоа Вэй Фэнь.
— Что мы будем делать теперь? — спросил Резчик.
— Ждать, — сказала Цзян.
— Ждать чего? — не отступал Резчик.
— Пока Конфуцианец выполнит задачу. В своем высокомерии он не видит того, что по-прежнему находится на службе у Договора.
— Ты не собираешься…
— Убить его за то, что он предал Договор? — перебила Цзян. — Нет. Город-у-Излучины-Реки пережил Эпоху Белых Птиц на Воде и теперь принадлежит народу черноволосых — единственному, который может построить Семьдесят Пагод.
— Но коммунисты…
— Это всего лишь еще одна случайная рыба, заплывшая в великое море по имени Китай.
Лоа Вэй Фэнь повернулся к Резчику:
— Тебе нужно уехать из Шанхая. Конфуцианец непременно захочет покарать тебя.
— Он уже отобрал у меня мастерскую и все мои работы. Чем еще он может мне навредить?
— Приведи ко мне своего сына, — сказал Лоа Вэй Фэнь.
— И что ты с ним…
— Он отправится со мной и моими сыновьями.
— Куда же?
— Далеко. Подальше отсюда. Туда, где мы будем ждать возвращения священной реликвии. Не спрашивай меня, что это за место, я все равно не скажу тебе.
Резчик кивнул и обещал привести сына еще до рассвета. Наконец, когда они оказались на вершине холма, Лоа Вэй Фэнь обратился к Цзян:
— А тебе Конфуцианец не навредит?
— Надеюсь, что нет.
— Почему?
— Он думает, что любит меня.
Убийца понимающе кивнул и спросил:
— Могу я попросить тебя о последней услуге?
— Разумеется.
— Позволь мне подержать твою дочь.
Цзян склонила голову в знак согласия.
Лоа Вэй Фэнь взял за руку девочку, в жилах которой текла наполовину японская кровь, поднял ее и нежно поцеловал в лоб.
Цзян хотела что-то сказать, но Лоа Вэй Фэнь приложил палец к ее губам.
— Я должен был сделать это еще тогда, когда увидел ее в первый раз.
— Мы еще когда-нибудь… — Цзян украдкой вытерла слезу.
— Нет, мы больше не встретимся никогда. Но наши дети или внуки — непременно. И вместе с Бивнем они будут наблюдать, как у излучины реки растут Семьдесят Пагод и воплощается Пророчество Первого императора. А теперь — смотрите!
Стоя на вершине холма на дальнем изгибе Хуанпу, Резчик, Убийца, Цзян и ее японская дочь смотрели, как могучий корабль, подобно Белой Птице на Воде, поймал ветер и с фань куэй на борту через сто с лишним лет двинулся прочь от Шанхая — по великой реке, по направлению к морю.
Пребывая в надежном укрытии, в Багдаде, лежа под полом второго этажа дома, в котором проживает большое семейство торговца Абдуллы, Священный Бивень продолжает раскрывать свои тайны. Хотя этого никто не видит, пророческий план Первого императора раскрывается по мере того, как Бивень медленно разрушается в сухом воздухе месопотамской пустыни.