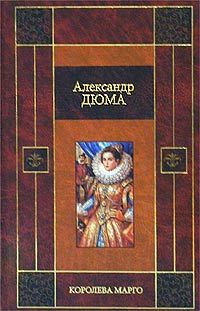— К другому, — выйдя из камеры, сказал комендант.
Они миновали одну пустую камеру и снова привели в действие три двери, шесть замков и девять засовов, Когда последняя дверь отворилась, первое, что услышали посетители, был вздох.
Эта камера была мрачнее той, из которой только что вышел де Болье. Четыре длинные узкие бойницы с решеткой прорезывали стену, все уменьшаясь, и слабо освещали это печальное обиталище. В довершение всего железные прутья перекрещивались достаточно искусно, чтобы глаз натыкался на тусклые линии решетки, и мешали узнику хотя бы сквозь бойницы видеть небо.
Стрельчатые нервюры, выходившие из каждого угла камеры, постепенно соединялись в центре потолка и образовывали розетку.
Ла Моль сидел в углу и даже не шевельнулся, как будто ничего не слышал.
— Добрый вечер, господин де Ла Моль! — сказал Болье.
Молодой человек медленно поднял голову, — Добрый вечер, сударь! — отозвался он.
— Сударь! Я пришел обыскать вас, — продолжал комендант.
— Не нужно, — ответил Ла Моль. — Я вам отдам все, что у меня есть.
— А что у вас есть?
— Около трехсот экю, вот эти драгоценности и кольца.
— Давайте, сударь, — сказал комендант.
— Вот они.
Ла Моль вывернул карманы, снял кольца и вырвал из шляпы пряжку.
— Больше ничего нет?
— Ничего, насколько мне известно.
— А это что висит у вас на шее на шелковом шнурке? — спросил комендант.
— Это не драгоценность, сударь, это образок.
— Дайте.
— Как? Вы требуете?..
— Мне приказано не оставлять вам ничего, кроме одежды, а образок не одежда.
Ла Моль сделал гневное движение, которое, по контрасту с отличавшим его скорбным и величественным спокойствием, показалось страшным даже этим людям, привыкшим к бурным проявлениям чувств.
Но он тотчас взял себя в руки.
— Хорошо, сударь, — сказал он, — сейчас вы увидите то, что просите.
Повернувшись, словно желая подойти ближе к свету, он вытащил мнимый образок, представлявший собой не что иное, как медальон, в который был вставлен чей-то портрет, вынул портрет из медальона и поднес его к губам. Несколько раз поцеловав его, он сделал вид, что уронил его на пол, и, изо всех сил ударив по нему каблуком, разбил на тысячу кусочков.
— Сударь!.. — воскликнул комендант.
Он наклонился и посмотрел, не может ли он спасти что-либо от вдребезги разбитого неизвестного предмета, который намеревался утаить от него Ла Моль, но миниатюра в буквальном смысле слова превратилась в пыль.
— Король хотел получить эту драгоценность, — сказал Ла Моль, — но у него нет никаких прав на портрет, который был в нее вставлен. Вот вам медальон, можете его взять.
— Сударь! Я буду жаловаться королю, — объявил Болье.
Ни слова не сказав узнику на прощание, он вышел в бешенстве и предоставил запирать двери тюремщику.
Тюремщик сделал несколько шагов к выходу, но, увидев, что Болье уже спустился по лестнице на несколько ступенек, вернулся и сказал Ла Молю:
— Честное слово, сударь, я хорошо сделал, что предложил вам сразу же вручить мне сто экю за то, чтобы я дал вам поговорить с вашим товарищем, а если бы вы мне их не дали, комендант забрал бы их вместе с этими тремястами, и уж тогда совесть не позволила бы мне что-нибудь для вас сделать. Но вы заплатили мне вперед, а я обещал вам, что вы увидитесь с вашим приятелем… Идемте… Честный человек держит слово… Только, если можно, не столько ради себя, сколько ради меня, не говорите о политике.
Ла Моль вышел из камеры и очутился лицом к лицу с Коконнасом, ходившим взад и вперед широкими шагами по середине своей камеры.
Они бросились друг к Другу в объятия.
Тюремщик сделал вид, что утирает набежавшую слезу, и вышел сторожить, чтобы кто-нибудь не застал узников вместе, или, вернее, чтобы не застали на месте преступления его самого.
— А-а! Вот и ты! — сказал Коконнас. — Этот мерзкий комендант заходил к тебе?
— Как и к тебе, я думаю.
— И отобрал у тебя все?
— Как и у тебя.
— Ну, у меня-то было немного — перстень Анриетты, вот и все.
— А наличные деньги?
— Все, что у меня было, я отдал этому доброму малому — нашему тюремщику, чтобы он устроил нам свидание.
— Ах, вот как! — сказал Ла Моль. — Сдается мне, что он брал обеими руками.
— Стало быть, ты тоже ему заплатил?
— Я дал ему сто экю.
— Как хорошо, что наш тюремщик негодяй!
— Еще бы! За деньги с ним можно будет делать все что угодно, а надо надеяться, в деньгах у нас недостатка не будет.
— Теперь скажи: ты понимаешь, что с нами произошло?
— Прекрасно понимаю… Нас предали.
— И предал этот гнусный герцог Алансонский. Я был прав, когда хотел свернуть ему шею.
— Так ты полагаешь, что дело наше серьезное?
— Боюсь, что да.
— Так что можно опасаться… пытки?
— Не скрою от тебя, что я уже думал об этом.
— Что ты будешь говорить, если дойдет до этого?
— А ты?
— Я буду молчать, — заливаясь лихорадочным румянцем, ответил Ла Моль.
— Ты ничего не скажешь?
— Да, если хватит сил.
— Ну, а я, ручаюсь тебе: если со мной учинят такую подлость, я много чего наговорю! — сказал Коконнас.
— Но чего именно? — живо спросил Ла Моль.
— О, будь покоен, я наговорю такого, что господин д'Алансен на некоторое время лишится сна.
Ла Моль хотел ответить, но в это время тюремщик, без сомнения услышавший какой-то шум, втолкнул друзей в их камеры и запер за ними двери.
Уже восемь дней Карл был пригвожден к постели лихорадочной слабостью, перемежавшейся сильными припадками, похожими на падучую болезнь. Иногда во время таких припадков он испускал дикие крики, которые с ужасом слушали телохранители, стоявшие на страже в передней, и которые гулким эхом разносились по древнему Лувру, уже встревоженному зловещими слухами. Когда припадки проходили, Карл, сломленный усталостью, с потухшими глазами, падал на руки кормилицы, храня молчание, в котором чувствовалось одновременно и презрение, и ужас.
Рассказывать о том, как мать и сын, не поверяя друг другу своих чувств, не только не встречались, но даже избегали Друг друга; рассказывать о том, как Екатерина Медичи и герцог Алансонский вынашивали в уме зловещие замыслы, — это все равно что пытаться изобразить тот омерзительный клубок, который шевелится в гнезде гадюки.
Генрих сидел под замком у себя в камере, и на свидание с ним, по его личной просьбе к Карлу, не получил разрешения никто, даже Маргарита. В глазах всех это была полная немилость. Екатерина и герцог Алансонский дышали свободнее, считая Генриха погибшим, а Генрих ел и пил спокойнее, надеясь, что о нем забыли.