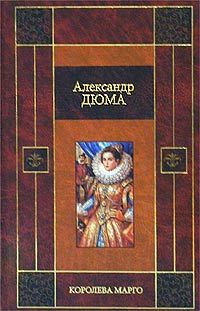— Но если тебя узнает кто-нибудь в окрестностях Венсенна, это может повредить нашему плану!
— А как меня узнают? Я выхожу из дома в одеянии монахини, под капюшоном, благодаря этому меня не узнаешь, даже столкнувшись нос к носу.
— В нашем положении лишняя предосторожность не помешает.
— Знаю, черт побери! — как сказал бы бедный Аннибал.
— А что король Наваррский? Ты о нем спрашивала?
— Разумеется, не преминула спросить.
— И что же?
— А то же, что он, по-видимому, никогда еще не бывал так весел — поет, смеется, ест в свое удовольствие и просит только об одном: чтобы его получше стерегли!
— Правильно делает! А что моя мать?
— Я уже сказала тебе: всеми силами торопит ход процесса.
— Да, но нас она ни в чем не подозревает?
— Как она может что-нибудь подозревать? Кто посвящен в нашу тайну, те заинтересованы в ее сохранении. Ах да! Я узнала, что она велела передать судьям Парижа, чтобы они были наготове.
— Давай действовать быстрее, Анриетта. Если наших бедных узников переведут в другую тюрьму, придется все начинать сначала.
— Не беспокойся, я не меньше твоего стремлюсь увидеть их за стенами тюрьмы.
— О да, я это прекрасно знаю! Спасибо, сто раз спасибо за то, что ты сделала, чтобы привести их сюда.
— Прощай, Маргарита, прощай! Я снова отправляюсь в поход.
— А в Болье ты уверена?
— Я на него надеюсь.
— А В тюремщике?
— Он обещал.
— А лошади?
— Будут самые лучшие из конюшни герцога Неверского.
— Я тебя обожаю, Анриетта!
С этими словами Маргарита кинулась на шею к своей подруге, после чего женщины расстались, пообещав друг другу встретиться завтра и встречаться каждый день в том же месте и в то же время. Это и были те два очаровательных и преданных создания, которых Коконнас — и то была святая истина — называл своими «незримыми щитами».
— Ну, мой храбрый друг, — сказал Коконнас Ла Молю, когда приятели встретились после допроса, на котором в первый раз зашла речь о восковой фигурке, — по-моему, все идет прекрасно, и в ближайшее время судьи сами откажутся от нас, а это совсем не то, что отказ врачей: врач, отказывается от больного, когда уже не может его спасти; а тут как раз наоборот: если судья отказывается от обвиняемого — значит он потерял всякую надежду отрубить ему голову.
— Да, — подхватил Ла Моль, — мне даже кажется, что в этой учтивости и обходительности тюремщиков, в этих эластичных дверях наших камер я узнаю наших благородных подруг. Ведь я просто не узнаю Болье — по крайней мере судя по тому, что я о нем слышал.
— Ну, я-то его прекрасно узнаю, — сказал Коконнас, — только это дорого будет стоить. А впрочем — что ж? — одна из них принцесса, другая — королева, обе богаты, а лучшего случая употребить деньги на доброе дело им не представится. Теперь повторим наш урок: нас отводят в часовню и оставляют под охраной нашего тюремщика; в указанном месте мы находим кинжалы, я продырявливаю живот тюремщику…
— О нет, нет, только не живот — так ты лишишь его пятисот экю. Бей в руку.
— Ну да, в руку! Это значило бы погубить беднягу! Сейчас видно будет, что мы с этим добрым человеком заодно. Нет, нет, в правый бок — и ловко скользнуть по ребрам; такой удар и правдоподобен, и безвреден.
— Хорошо, пусть так, а затем…
— Затем ты завалишь входную дверь скамейками. Наши принцессы выбегут из-за престола, где они спрячутся, и Анриетта откроет дверцу ризницы. Честное слово, теперь я люблю Анриетту; должно быть, она мне изменила, коль скоро это так обновляюще на меня подействовало.
— А затем мы скачем в лес, — сказал Ла Моль тем трепещущим голосом, который исходит из уст, словно музыка. — Каждому из нас довольно поцелуя, чтобы стать счастливым и сильным. Ты представляешь себе, Аннибал, как мы несемся, пригнувшись к нашим быстроногим скакунам, а сердце сладко замирает? О, этот страх — превосходное чувство! Как хорош этот страх на воле, когда на боку у тебя добрая, обнаженная шпага, когда кричишь «ура», давая шпоры своему коню, а он при каждом крике уже не скачет — летит!
— Да, Ла Моль, но что ты скажешь о прелестях страха в четырех стенах? — заметил Коконнас. — Я имею право говорить об этом, ибо сам кое-что испытал в этом роде. Когда бледная рожа Болье впервые появилась в моей камере, а позади него блеснули протазаны и зловеще лязгнуло железо о железо, — клянусь тебе, я сразу подумал о герцоге Алансонском и так и ждал появления его гнусной физиономии Между двумя противными башками алебардщиков. Я ошибся, и это было моим единственным утешением, но я не много потерял ночью я увидел его во сне.
— Да, — говорил Ла Моль, следуя за улыбавшейся ему мыслью и не сопровождая своего друга в путешествии, которое совершала его мысль по стране фантазии, — да, они все предусмотрели, даже место нашего убежища. Мы едем в Лотарингию, дорогой друг. По правде говоря, я предпочел бы Наварру; в Наварре я был бы у нее, но Наварра слишком далеко, Нанси удобнее, мы там будем всего в восьмидесяти милях от Парижа. Знаешь, Аннибал, о чем я буду жалеть, выходя отсюда?
— Вот тебе на! Честное слово, не знаю… Я все сожаления оставляю здесь.
— Мне будет жаль, что мы не сможем взять с собой почтенного тюремщика, вместо того, чтобы…
— Да он и сам не захотел бы, — возразил Коконнас, — он слишком много потеряет: подумай, пятьсот экю от нас да вознаграждение от правительства, а может быть, и повышение по службе. Как счастлив будет этот молодец, когда я его убью!.. Но что с тобой?
— Так… ничего… У меня мелькнула одна мысль.
— Видно, не больно веселая, если ты так страшно побледнел?
— Я спрашиваю себя, зачем нас поведут в часовню.
— Как зачем? Для причастия, — ответил Коконнас. — Думаю, что так.
— Но ведь в Часовню уводят только приговоренных к смертной казни или после пытки, — возразил Ла Моль.
— Ого! Это заслуживает внимания, — слегка побледнев, ответил Коконнас. — Спросим доброго человека, которого мне придется потрошить. Эй! Ключарь! Друг мой!
— Вы звали меня, сударь? — спросил тюремщик, карауливший на верхних ступенях лестницы.
— Да, звал. Поди сюда.
— Вот он я.
— Условленно, что мы бежим из часовни, так ведь?
— Те! — с ужасом оглядываясь вокруг, произнес ключарь.
— Не беспокойся, никто нас не слышит.
— Да, сударь, вы бежите из часовни.
— Значит, нас поведут в часовню?
— Конечно, таков обычай.
— Так это обычай?
— Да, по обычаю после вынесения смертного приговора осужденным разрешается провести в часовне ночь накануне казни.