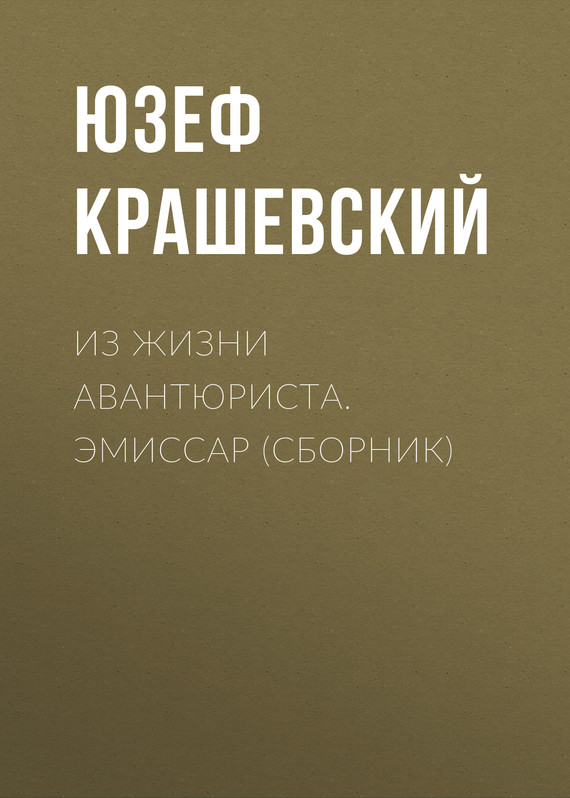с которой Тола отлично ладила и любила её как сестру… Та уже не первой молодости пани, всё состояние которой муж проиграл в карты, жила на милости своей ученицы, но была для неё самой нежной подругой и самой любимой поверенной.
Среди первых слов разговора, профессор, который уже достаточно присмотрелся к Юноне, посчитал нужным ускользнуть незамеченным, тем более был неспокоен за гостя и Шекспира.
Нашёл их обоих в самых дружеских отношениях. Мурминский читал, лёжа, «Ромео и Джульетту» в пятидесятый раз в жизни, и так был проникнут драмой, что не сразу услышал и увидел Куделку.
Профессор не хотел ему признаваться, ни где был, ни кого видел. Осмотрев, что ему было на сегодня нужно, попрощался пожатием руки.
Мурминский вернулся к драме…
– Мой добрый профессор, – воскликнул он, – ты не знаешь, что за счастье дал мне в этом Шекспире. Вселяясь в чужую боль, человек немного о своей забывает. Но, ради Бога! Работы, какой хочешь работы… потому что меня эта мысль задушит, что живу твоей милостыней.
– Найдём, найдём! – сказал, уходя, профессор. – Только немного терпения.
На следующее утро, хорошо помня, что должен был увидеться с ксендзем Еремеем, профессор просто с лекции пошёл до указанной каменицы. Он как раз имел на устах вопрос, где живёт ксендз-прелат, когда на него наткнулся бегущий слуга.
Кучка любопытных стояла под галереей во дворе, где был подъём на верх.
– Он был старый… где же! Имел девяносто лет, что удивительного, – говорил один.
– Но вчера здоровёхонький, болтал, ел, Павел говорит, что его давно таким не видел. Ещё рюмочку вина выпил за обедом. Ксендз Стружка ходил к нему… а… сегодня утром… caput!
– Слышал, старикашка как бы спал…
– Кто же это такой умер? – очень вежливо спросил профессор, поднимая шляпу.
– Ксендз-прелат Заклика… ксендз Еремей, – сказал один из присутствующих.
Куделка опустил в землю глаза – было уже не зачем идти. Опоздал на двадцать четыре часа…
– Такая судьба бывает у тех, которых преследует какое-то несчастье и фатализм, – сказал в духе грустно старик.
С кседзем Еремеем угасла последняя надежда для бедняги.
Он вздохнул. Зачем ему уже и говорить о том… или об этой панне, для которой он сегодня, бедолага, не пара.
Но всё-таки есть Провидение – дадим ему как-нибудь помочь.
* * *
Докторова, которой Господь Бог детей не дал, из доброго сердца и из тоски довольно любила заниматься делами ближних, но таким образом, что им охотной была помощницей и никогда, по крайней мере, по доброй воле, вредоносной. Не было это для неё забавой чести, но дополнением обязанности. Часто удавалось предотвратить плохое, ускорить или побудить сделать хорошее. И в этот раз, увидев входящую на этот разговор Толу, она подумала, что следовало бы постучать в её сердце и попробовать, что там также в нём делается.
Сели на канапе – подруга Толи, редко вмешивающаяся в разговор, когда не была вызываема, отошла, рассматривая богатую коллекцию цветов хозяйки. Докторова долго смотрела на красивую панну, с которой была в давних и дружеских отношениях.
– Моя Тола, – сказала она, не спуская с неё глаз, – какая ты всегда красивая… какая свежая и молодая и как дивно по тебе видно, что – счастлива.
Тола повернула к ней серьёзное и мягко улыбающееся лицо.
– Знаешь, – отвечала она, – я бы не удивилась ни одному открытию на моём бедном лице… но что ты на нём сумела вычитать выражение счастья…
– Я ошиблась? – прервала хозяйка.
Тола молчала, опуская глаза.
– Мы, панны, – отозвалась спустя минуту, – не можем быть счастливы, в этом нам отказано, наше состояние есть постоянным ожиданием… а если бы уже имели счастье, мы должны были бы осудить себя на то, чтобы остаться вечной девой. Что до меня, ты, может, настолько отгадала счастье, что я в действительности не думаю идти замуж и поэтому спокойна… я удовлетворена, не требую ни больше, ни иначе.
– Значит, я была права.
– Да, – вздохнула Тола, – я умела отказаться от мечты; живу реальностью и – мне сносно.
– Но почему бы тебе не пойти замуж? – спросила докторова.
– По крайней мере, буду защищаться от этого, – рассмеялась Тола.
– Наталкиваешь меня на размышления, – отпарировала на это женщина, – что имеешь какие-то дорогие воспоминания, которые тебе свет заслоняют.
– Первый раз слышу тебя такой пытающейся исповедать меня, – отозвалась красивая панна. – Разве имела и ты для меня конкурента?
Докторова начала смеяться.
– А! А! Это против моих принципов, – воскликнула она, – никого не женю и не развожу никого.
– Я отдыхаю, – сказала Тола, – потому что, признаюсь тебе, что из-за этого вечного сватовства мне мир опротивел. Поэтому я так часто выезжаю за границу, потому что мне дома покоя не дают. Иногда я рада бы, чтобы разошлась весть, что я потеряла состояние; затем, ручаюсь тебе, оставили бы меня в покое и никто бы уже не разгласил.
– Ты несправедлива, – прибавила хозяйка, – из тех, что о тебе старались, я знаю, по крайней мере, одного, который не думал о состоянии.
– Одного? Кого? – хмуря брови, спросила Юнона.
– Не хочу вспоминать его, потому что это был человек бедный.
Докторова подняла голову и словно совсем из другой темы и из иного тона начала:
– А propos [4], не знаешь также, моя милая, что стало с Тадзем Мурминским?
Говоря это, она уставила на неё глаза, следя за выражением, какое произведёт напоминание его имени. Тола осталась вполне спокойной, хотя видно было, что великой силе и владению собой она была этим обязана. Она медленно подняла заплаканные глаза на докторову и, пожимая плечами, сказала:
– Ничего о том господине не знаю. Догадалась, что в нём, наверное, ты хочешь видеть того, что не думал о состоянии, но также он и обо мне не думал. Верь мне. Трус… голова запалённая, сердце непостоянное… не стоит говорить о нём.
Когда она это кончила, в голосе была видна дрожь.
– Не могу о нём судить, потому что почти не знала его, однако есть люди, что лучше о нём утверждают, – говорила спокойно докторова, – а все того мнения, что он безумно в тебя влюбился и что отчаяние его в свет толкнуло.
– Отчаяние! – начала смеяться Тола. – Что за трагичное понятие легкомысленного характера.
– Не знаю более несчастной доли, чем та, что его встретила, – отозвалась докторова, – быть в таком доме, у такого сердца, как у президентши, почти сыном, ребёнком, любимцем, воспитываться в достатках и быть выпихнутым, запрещённым, презираемым… сиротой и бродягой.
– Это правда, – отозвалась Тола, – положение его было неприятным, но не хватило сил, которыми мужчина, достойный этого имени, должен вооружиться для жизни. Не имел силы и отваги бороться и вернуть себе то, в чём ему отказали или лишили его – убежал как трус и чудак. У меня нет уважения к человеку, что не имел мужества.
– Но, дорогая Толи, – прервала докторова, – ты несправедлива. Он бы боролся, если бы имел