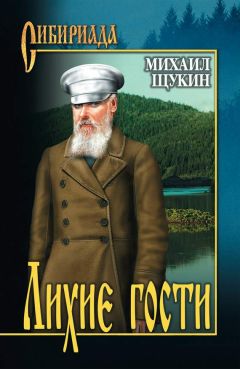— Погоди, милый, погоди, скоро и тебя потащат — на кладбище. Будет тебе праздник, — весело отвечал Агапов. — Нос-то пропил, сердешный?
— Старая коряга! А ты мне наливал?!
— Это верно говоришь, не наливал. Ну-ка, ребятки, стойте, — Агапов пошарился в кармане, вытащил горсть мелочи. — Держи, сердешный, выпей за мое здоровье и за нос свой, чтоб он выправился.
— Да с нашим удовольствием! — оборванец весело ощерился беззубым ртом, принял в пригоршню негромко звякнувшую мелочь и так стремительно стрельнул к раскрытым воротам сарая, что тряпье на нем вскинулось и затрепыхалось, словно от порыва ветра. Агапов только головой покачал, удивляясь такой небывалой проворности.
Работники дорогу знали — обогнули дом, поднялись на невысокое крыльцо, и Агапов уверенно постучал условным стуком: раз-два, раз-два и еще раз — в крепкие, обитые толстым железом двери. Изнутри донеслось:
— Кого Бог послал?
— До вашей милости прибыл, Ефим Демидыч. Если не признал по голосу, доложусь тебе: Агапов я.
— Признал, заходи.
Железный запор звонко звякнул, двери широко раскрылись, и луканинские работники внесли Агапова в просторную комнату при одном-единственном и махоньком окошке, которое тускло маячило где-то под самым потолком. Но в комнате было светло, потому что на специальных подставках вдоль стен ярко горели керосиновые лампы. Посреди комнаты стоял круглый стол, застеленный красной скатертью с кистями, на столе весело пыхтел самовар, а за столом сидел, по-кошачьи прижмуривая и без того узкие глаза, старший Дубов — Акинфий. Разница в возрасте была у братьев лет в десять, но гляделись они как близнецы: невысокие, крепкие, словно пеньки, с крутыми, могучими плечами. И на лицо были одинаковы: носы приплюснуты, глаза узкие, скулы широкие, как разводья у саней. Звероватое, хищное проглядывало в обличии братьев, а когда они смотрели, прищуривая до тоненьких щелок узкие глаза, человеку, оказавшемуся перед ними, становилось не по себе.
Но Агапов давно знал и хорошо изучил Дубовых. Поерзал, удобней устраиваясь на мягком стуле, утвердил локти на столешнице и отправил работников на улицу:
— Ступайте, ребятки, на крыльце меня обождите. Я тут чаю с хорошими людями похлебаю.
Дотянулся до чашки, сунул ее под краник самовара, нацедил кипятка, плеснул из фарфорового чайника запашистой заварки, размешал, отлил немного на блюдце и, ловко ухватив его тремя пальцами, принялся сошвыркивать, вытягивая губы трубочкой, горячую влагу. Лязгнул железный запор двери, в комнату вернулся Ефим и сел рядом с братом, напротив гостя.
Хозяева молчали, и Агапов молчал, продолжая радостно швыркать чай, словно он его никогда не пил и лишь сейчас дорвался до неописуемой сладости.
Потрескивали фитили в лампах, да надоедливо брунжала где-то поздняя осенняя муха.
— А мы его, Агапыч, силой тебе отдать никак не можем, — словно продолжая давным-давно начавшийся разговор, тяжело выговорил Акинфий.
— Никак не можем, — подтвердил Ефим.
Братья Дубовы и разговаривали одинаково: слова ворочали, как неподъемные камни.
— А зачем силой-то? — Агапов наконец-то поставил блюдце на стол. — Вы его передо мной посадите, сердешного, я сам потолкую. Меня-то он не испугается, какая в безногом старике сила?..
Акинфий нацедил кипятка в свою чашку, хлебнул, подумал и помотал лобастой головой:
— Ты наш устав знаешь, мы жителей своих никому не выдаем.
— Нам тогда никакой веры не будет, и весь порядок рухнет, — добавил Ефим.
— Да вы чего уперлись, ребятки, как быки в борозду? — ласково уговаривал Агапов. — Покажете меня издали, скажете: так, мол, и так, желает дед про твои путешествия услышать. И денежек ему пообещайте. К слову сказать, куда он исчез-то?
— Гуляет. Через недельку вернется, — Ефим скосил взгляд на старшего брата, тот легонько кивнул и Ефим продолжил: — Деньжонки кончатся — и вернется, как миленький.
— А точно вернется? — не унимался Агапов.
— Вернется, — заверил Акинфий, — он золотишко нам на храненье оставил. Явится, если не зарежут. Ладно, Агапыч, из уваженья к тебе изладим.
— За чаек благодарствую, добрый у вас чаек, ребятки. А это в прибавок к моей благодарности, — Агапов вытащил из кармана деньги, завернутые в белую тряпочку и сунул их под блюдце: — Ефим, кликни моих молодцев, вытаскивать меня пора, засиделся.
Уже в пролетке он негромко и ворчливо пробормотал:
— Хоть молись за этого бродягу, чтоб его ножиком не пырнули. И помолился бы, да не знаю, как кличут… И эти пеньки молчат, не сказывают…
Бес, бес, он, нечистый, прицепился к Егорке Костянкину, по воровскому прозвищу Таракан, прилип намертво и строил над ним каверзы, какие только хотел.
Промышлял Егорка мелким воровством, в большие разбойные дела не влезал, в суровые казенные руки ни разу не попался и жил не тужил: сытый, пьяный, а нос в табаке. Но бес попутал: не устоял Егорка перед соблазном и залез в богатый дом в Тюмени, за которым приглядывал целую неделю, пока не удостоверился в точности — в какое время не бывает в доме ни хозяев, ни прислуги. Проскользнул без звука, ловко открыв форточку. Был Егорка малого роста, худенький, как парнишка, и необычайно проворный, за что и заслужил свое прозвище. В доме, не оглядываясь, сразу взялся за дело, начал проверять содержимое шкафов и комодов, чтобы выбрать вещички размером поменьше, но ценой подороже. Тут и навалился кто-то на него сверху, как гора обрушилась, подмял под себя и давай душить. Егорка дергается из последних силенок, а не тут-то было, в глазах уже красные кругляши запрыгали. Все-таки изловчился, вытянул из-за голенища сапога нож и давай тыкать им, не видя уже — куда и в кого тыкает. Только и чуял, что липкая кровь по руке течет, да слышал над ухом тяжелый хрип и матерную ругань.
Вырвался Егорка, отскочил в сторону и увидел, что лежит на полу, весь в кровище, здоровенный мужик. Не ругается уже, только хрипит и глаза закатывает. Егорка со страху вынырнул через форточку, словно щучка, но спрыгнул на землю неудачно — левую ногу подвернул. Не зря говорят, что бес с левой стороны находится, потому и плюют через левое плечо, чтобы он отстал. А Егорка не плюнул, позабыл… Кувыркнувшись, он в горячке еще вскочил на ноги, но сразу же рухнул на землю и скрючился от пронзительной боли.
Взяли его тепленьким и смирным. Со всеми уликами: с чужой кровью на руках, с ножом и с хозяйскими золотыми побрякушками, которые он успел сунуть в карман. А к купцу Воробьеву, в дом которого залез Егорка, как после выяснилось, накануне брат в гости приехал, вот он и кинулся добро защищать. Добро защитил, а сам на тот свет отправился: Егорка, как судейские подсчитали, двенадцать раз его продырявил.