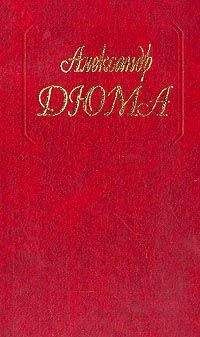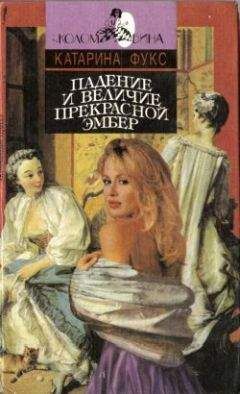Наконец после еще двух часов внутренней борьбы, во время которой моральный дух послушника все больше и больше слабел, так что наш вынужденный затворник не мог ни собрать сил для декламирования даже самой коротенькой роли из любимой трагедии, ни перечесть с пользой для себя белевшие на стенах изречения, Баньер примостился на лежанке без тюфяка, натянул на себя покрывало и предался думам, сравнивая свое настоящее и прошлое положения.
На этом он и остановился, поскольку будущее для него было настолько покрыто мраком, что нельзя было даже и пытаться его предугадать.
Между тем ночь, рассудительная советчица здравых умов, ночь, которую древние готы прозвали матерью счастливого случая, ночь, которую иезуиты сделали своей союзницей в укрощении строптивцев, — ночь медленно сошла с небес и покрыла единственное оконце, глаз темницы, слепотой, густеющей с каждой минутой.
Постепенно меркли белые надписи вдоль стен; постепенно гасли, возвращаясь в небытие, откуда их извлекли на свет, высокие моральные сентенции, приговаривающие смертных улетучиваться, как прах, гнить, как плоть, и гнуться, как тростник, под дланью неизбежности.
Вскоре Баньер уже не различал ничего и продолжал лежать на досках своего ложа, коченея от холода и становясь все грустнее. Так протекло еще два часа, и за это время он вдруг осознал, что надпись над дверью залы, служившей ему тюрьмой, была отнюдь не пустым сочетанием букв, но что воистину это место заслуживало своего названия залы размышлений:
«На что еще приют, когда б не для раздумий?»
Сказано это было Лафонтеном.
В своем приюте предался раздумьям и наш послушник.
А задумавшись, он тотчас же задремал.
Ночь, как говаривал старик Гомер, пробежала половину своего пути в колеснице черного дерева на серебряных колесах, когда странный, неумолчный пронзительный скрежет вывел юношу из небытия, куда голод и размышления, объединившись, погрузили его разум.
Этот звук, всем знакомое царапанье, доносился из-под ткани, затягивавшей стену слева от него.
Стряхнув сон, Баньер открыл сначала один глаз, потом другой, перевернулся на своей лежанке лицом туда, откуда исходил скрежет, и прислушался.
Резкое эхо продолжало разносить эту монотонную мелодию. Ошибка исключалась: Баньер узнал звук, который производят мышиные зубы. Его источник располагался на высоте дюжины футов, как раз между драпировкой и стеной.
Юноша испустил тяжкий вздох.
Что заставило его вздохнуть? Увы, сравнение: в своей униженности он находил мышь весьма счастливой.
И в самом деле, блаженна была эта мышка, которая устроила себе позднюю трапезу в полуночный час среди изречений моралистов и стоических философов, проповедовавших умеренность и бесстрастность!
Блаженна была эта мышка, которая свободно разгуливала между стеной и драпировкой, грызя кусочки старого сукна или старой кожи!
Но нет, мышь грызла не кожу и не сукно: звук был гулким. Она точила дерево.
Дерево! А это, заметьте, уже обстоятельство нешуточное.
Конечно, оно вовсе не важно для вас, любезный мой читатель, ни тем более для вас, очаровательная читательница, листающие мой труд, уютно закутавшись в халат, положив ноги на каминную подставку для дров, с сознанием, что стоит вам пожелать — и вы вольны отправиться на прогулку в лес или, по крайней мере, на Елисейские поля… А вот в ушах нашего послушника, бедного узника, самый малозначительный шум приобретал важность, пропорциональную тяготам неволи и жажде освобождения.
В том, грызла ли мышь кожу или дерево, заключался для Баньера самый важный вопрос.
Вот цепь его рассуждений:
«Дерево!.. Решительно, эта мышь гложет дерево.
За каким дьяволом мышь потащила бы кусок дерева на такую высоту? Но допустим, затащила, хотя по ее силенкам работа трудоемкая, поскольку нет у нее подъемной машины, сравнимой с той, какую пустил в ход Антоний, чтобы перетащить свои галеры из Средиземного моря в Красное. Тогда как же она умудряется удерживаться на каменной или оштукатуренной стене и преспокойно, насколько я понимаю, ужинать? Нет ли у нее под боком норки, выступа, карниза, способного послужить столом?
Быть может, она упирается спинкой в стену, а лапками в драпировку? Тогда она ест на весу, имея в своем распоряжении и стол и гамак.
Но нет! Эхо такое гулкое, оно так настойчиво долбит в уши, столь явственно вибрирует, что не может быть произведено простой щепкой, отодранной где-то мышью. Звук свидетельствует, что грызун непрестанно трудится над чем-то протяженным, плотным, хорошо закрепленным и имеющим, как все твердые тела, длину, ширину и толщину.
Видно, там, под тканью, есть что-то деревянное.
Может быть, вся стена целиком из дерева?» — размышляя, добавил Баньер. Он поднялся и постучал по стене, но та не произвела ни звука, ибо была целиком сложена из камня.
— Пусть так! — прошептал послушник. — Однако разве это доказывает, что выше ее не может находиться что-либо деревянное? Например, оконная рама!
Вслед за этим юноша выстроил из предположений нечто невероятное.
Для чего могла служить эта оконная рама? С какой целью она оставлена за драпировкой?
Есть такие окошки, называемые «иудин глаз», — через них какому-нибудь надзирателю удобно подсматривать за каждым послушником, находящимся здесь, а потом докладывать настоятелю.
Встречаются и потайные двери…
И тут его осенило:
«Если у залы размышлений имеется потайной вход — значит, с его помощью можно и выйти!»
Тут Баньер принялся ощупывать стену над головой и убедился, что оконная рама либо дверь расположены на высоте, по меньшей мере, шести футов от пола, поскольку, встав на цыпочки и протянув вверх руки, под кончиками пальцев он чувствовал все тот же сплошной камень.
«Если это дверь, которая висит в воздухе, то ею нельзя пользоваться, — глубокомысленно рассудил он. — Разве что приходящий имеет при себе лестницу.
Следовательно, там не дверная рама, но оконная».
Последнее было наиболее вероятно, и Баньер решил придерживаться этого предположения.
Однако темнота делала дальнейшие изыскания затруднительными, и юный узник постановил отложить их до следующего дня, благодаря чему мышь провела восхитительную ночь и прекратила грызть дерево только с рассветом.
В отличие от своей гостьи-грызуньи, Баньер более не сомкнул глаз, терзаясь тревогой и мучась всем естеством, которое, совершенно изголодавшись, возвещало о своем неблагополучии бурчанием, вполне созвучным поскрипыванию дерева под мышиными зубами.
VII. ШЕСТВИЕ ИРОДА И МАРИАМНЫ
Мы уже упоминали, что мышиная трапеза завершилась к утру; тогда же настала пора потрудиться и послушнику.