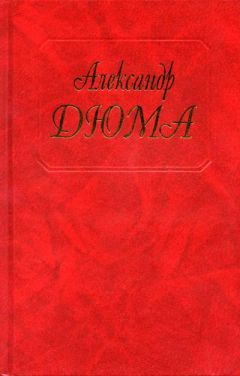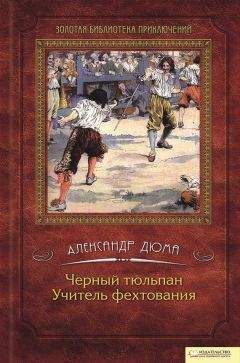Карл движением руки остановил кормилицу, собиравшуюся исполнить приказание.
— Мадам, я сказал — брата, — возразил Карл.
Глаза Екатерины расширились, как у тигрицы, приходящей в ярость, но Карл повелительным жестом остановил ее.
— Я хочу говорить с братом моим Генрихом, — сказал он. — У меня только один брат — Генрих; не тот, который царствует там, в Польше, а тот, который сидит здесь в заключении. Он и услышит мою последнюю волю.
— Неужели вы воображаете, — воскликнула Екатерина с несвойственной ей смелостью перед страшной волей своего сына — настолько ненависть к Генриху Наваррскому вывела ее из состояния обычного притворства, — неужели вы воображаете, что если вы находитесь при смерти, как вы говорите, то я уступлю кому-нибудь, а тем более постороннему лицу, свое право присутствовать при вашем последнем часе — право королевы, право матери?
— Мадам, я еще король, — ответил Карл, — пока приказываю я, мадам! Я говорю вам, что хочу переговорить с братом моим Генрихом, а вы не зовете командира моей охраны!.. Тысяча чертей! Предупреждаю вас, что у меня еще хватит сил самому пойти за ним.
И он приподнялся, чтобы сойти с кровати, раскрыв свое тело, похожее на тело Христа после бичевания.
— Сир, — воскликнула Екатерина, удерживая его, — вы оскорбляете нас всех, вы забываете обиды, нанесенные нашей семье, вы отрекаетесь от кровного родства; только наследный принц французского престола имеет право преклонить колена у смертного одра французского короля. А мое место предуказано мне здесь и законами природы, и требованиями этикета; поэтому я остаюсь…
— А в качестве кого вы здесь останетесь, мадам?
— В качестве матери.
— Как герцог Алансонский мне не брат, так же и вы, мадам, — не мать!
— Вы бредите! — возмутилась Екатерина. — С каких это пор женщина, давшая жизнь другому существу, перестает быть матерью того, кто получил от нее жизнь?
— С того времени, мадам, как эта бесчеловечная мать отнимает то, что она дала, — ответил Карл, вытирая кровавую пену, появившуюся у него на губах.
— О чем вы говорите? Я вас не понимаю, — пробормотала Екатерина, глядя на Карла изумленными, широко раскрытыми глазами.
— Сейчас поймете, мадам!
Карл пошарил под подушкой и вытащил оттуда серебряный ключик.
— Возьмите этот ключ, мадам, откройте мою походную шкатулку; в ней лежат документы, которые ответят вам вместо меня.
И Карл показал рукой на стоявшую на видном месте шкатулку, украшенную великолепной резьбой, с серебряным замком, чеканным так же, как и ключ.
Уступая душевной силе Карла, Екатерина повиновалась, медленно подошла к шкатулке, открыла ее, заглянула внутрь и сразу отшатнулась, точно увидела на дне спящую змею.
— Что в этой шкатулке так испугало вас, мадам? — спросил Карл, не спускавший глаз с Екатерины.
— Ничего, — ответила Екатерина.
— Тогда, мадам, протяните вашу руку и выньте из шкатулки книгу; там ведь лежит книга, верно? — прибавил Карл с бледной улыбкой, означавшей нечто более страшное, чем любая угроза.
— Да, — пролепетала Екатерина.
— Книга об охоте?
— Да.
— Возьмите ее и подайте мне.
При всей своей самоуверенности, Екатерина побледнела, задрожала всем телом, но опустила руку в шкатулку.
— Рок! — прошептала она, беря книгу.
— Хорошо, — сказал Карл. — А теперь слушайте! Я был неосторожен… Больше всего на свете я любил охоту… эта книга об охоте… я слишком жадно ее читал… Понятно вам?
Екатерина чуть слышно охнула.
— В этом была моя слабость, — продолжал Карл. — Сожгите книгу, мадам: не надо, чтобы люди знали о королевских слабостях!
Екатерина подошла к горящему камину, бросила в огонь книгу и молча, не двигаясь с места, глядела мутным взором, как синеватое пламя съедало страницы, пропитанные ядом. Чем больше их съедало пламя, тем сильнее пахло чесноком.
Наконец книга сгорела.
— Теперь, мадам, позовите моего брата, — произнес Карл с непререкаемой властностью.
Совершенно растерявшись, подавленная множеством противоречивых чувств, которые был не в силах осознать даже ее глубокий ум и не могла преодолеть почти сверхчеловеческая сила ее воли, королева-мать сделала шаг по направлению к Карлу, собираясь что-то сказать, но остановилась. Три чувства в ней кричали громче всех: в матери — муки совести, в королеве — ужас, в отравительнице — вновь вспыхнувшая ненависть. Последнее чувство взяло верх над всеми остальными.
— Будь он проклят! — воскликнула она, бросаясь вон из комнаты. — Он торжествует, он у цели! Да, проклят! Проклят!
— Вы слышали: моего брата, брата Генриха, — крикнул ей Карл. — Моего брата Генриха, и сию минуту! Я хочу переговорить с ним о регентстве над государством.
Почти сейчас же вслед за Екатериной в другую дверь вошел Амбруаз Парэ; он остановился на пороге и принюхался к чесночному запаху, наполнившему спальню короля.
— Кто жег мышьяк? — спросил он.
— Я, — ответил Карл.
XIII
ВЫШКА ВЕНСЕНСКОЙ КРЕПОСТИ
В это время Генрих Наваррский задумчиво прогуливался по вышке главной башни; он знал, что королевский двор живет шагах в ста от него, здесь, в Венсенском замке; проницательный взор Генриха как будто видел умирающего Карла сквозь стены замка.
Вокруг все голубело, золотилось. Потоки солнечного света широко разливались по долинам и золотили верхушки леса, гордившегося великолепием молодой листвы. Мягкое, теплое дыхание неба, казалось, пропитывало даже серые камни башни; и цветы левкоя, занесенные в ее расселины восточным ветром, раскрывали свои оранжевые венчики под теплым дуновением воздуха.
Но не зеленые долины, не золотистые древесные вершины влекли к себе пристальный взор Генриха; взгляд его переносился через пространство и, светясь огнем честолюбия, упорно обращался на тогдашнюю столицу Франции, в будущем — столицу мира.
— Вот он — Париж, — шептал король Наваррский. — Париж! В нем власть, слава, радость, торжество и счастье! В нем — Лувр, а в Лувре — трон. Что отделяет меня от столь желанного Парижа? Только одно — камни, что громоздятся здесь, у моих ног, и служат жилищем моей врагине.
В то время как Генрих переносил свой взгляд с Парижа на Венсен, он вдруг заметил слева от себя, в долине, осененной миндальными деревьями в цвету, какого-то мужчину в латах, на которых играл луч солнца, и этот «зайчик» порхал вдали при каждом движении незнакомца. Он сидел верхом на горячей лошади, держа в поводу другую лошадь, по-видимому, такую же ретивую, как и первая.