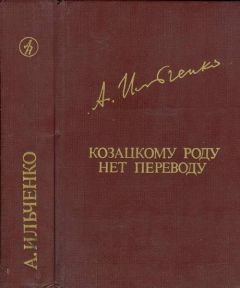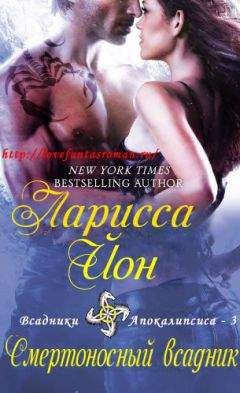— Птичьего молока не бывает в природе, — не улыбнувшись, возразил пан обозный, ибо ему, как иным панам средней руки, не иметь ни малейшего чувства того, что мы ныне называем юмором, велел сам бог. — Такого в жизни не бывает! Злые языки плетут, будто у пана гетмана, Гордия Гордого, вместо одной руки — лебединое крыло! Другие толкуют, будто Козак Мамай может убежать от ворога, нырнув в кадку с водою, чтоб вынырнуть аж где-то в Черном море. А тут вдруг еще: «Птичье молоко»! Такого ж на свете не бывает? Не бывает! Вот почему я не могу дозволить, чтоб в моем городе водили за нос простодушных! — И заорал — За-пре-ща-ю!
— Что же вы… запрещаете? — запнувшись, спросила Настя Певная.
— Сие название — противно истине, — глубокомысленно заключил обозный. — Молоко ведь бывает только коровье…
— Овечье! — подсказали пану начальнику из толпы.
— Заячье!
— Кобылье!
— Свинячье!
— Ослиное!
— Это другое дело! — согласился обозный. И пообещал: — Ладно, подумаю.
— Над чем? — не утерпела Настя-Дарина.
— Над новым названием сего гнезда разврата, — важно молвил обозный. — Так, значит, я подумаю… посоветуемся, какое то должно быть молоко. — И, показав щербатые зубы, ласково улыбнулся из-под своих щетинистых усов: — Ты, сладчайшая Настуся, не тревожься… я все сие обеспечу, солнышко мое! О-бес-пе-чу! — повторил он, явно любуясь этим поэтическим словом.
Оставив в таратайке под приглядом Оникия Бевзя свою блестевшую от работы лопату и порожний мешок, пан Куча отряхнул на себе жупан, и от усталости его и следа не осталось, словно бы и от сердца отлегло, а то ведь, прокопав вместе с катом целехонький день, пан обозный не нашел там, где крепко надеялся найти, ни малейшей приметы какого-либо клада, ни-ни!
Оттого-то он такой сердитый и налетел тут на всех.
Однако все уже миновало.
Усаживаясь в шинке за стол, он глубокомысленно бормотал про себя:
— Так, так! Ага… пускай будет так: «Свинячье молоко»! — И он, довольный этим решением, вынимал из кармана и в охотку жевал совсем зеленые лесные кислички, коими попотчевала его еще утром какая-то молоденькая цыганочка, ворожея, когда он, случайно ее встретив, попросил какого ни есть дьявольского зелья для взбодрения мужеска духа.
И он теперь жевал те незрелые кислички, а ему и впрямь-таки чудилось, словно дух его взбодряется от завороженных цыганкой лесных яблочек.
29
И такое приподнятое настроение овладело им теперь, что он сам себе еще пуще понравился.
И шинкарочка Настя Певная пану обозному вдруг приглянулась.
Да и дома его ждала любимая женушка, и пан Демид нарочно хотел задержаться, чтоб помучить ее ожиданием.
Ему, правда, и отдохнуть здесь хотелось после многотрудного дня с лопатою, после непривычной и тяжкой работы — ведь за всю жизнь не переворочал пан столько земли, как за последние несколько дней, — и Демид хотел малость отдохнуть, чтоб к молоденькой супруге явиться в полной силе и красе.
Сидя у стола, он заглядывался (невольно, конечно) и на шинкарочку, вельможный пан, ибо глаз от нее отвести было невмочь, такая она красовалась там пышная да пригожая, вся в низках кораллов, в дукачах да сережках, с кольцами да перстеньками на каждом пальце, в цветистом гуцульском уборе, который шинкарка надела сегодня, затем что был ей к лицу, — и она видела, что пану обозному пришлась по нраву.
— Вся горилка за время войны повысохла? — спросил он шутя.
— Да, милостивый пане.
— По моему велению? — чванясь своей властью, спросил полковой обозный.
— Да, ваша вельможность.
— Так налей мне хоть кружку молока! — велел пан Куча-Стародупский и вновь улыбнулся шинкарочке чересчур даже красными губами, что рдели под не столь уж густыми рыженькими усиками.
— Молочка? — переспросила шинкарка, но не тронулась с места.
— Молоко — питье молодых, благо они пьяны и без того: своею молодостью пьяны. А старикам…
— Нет! — крикнул захожий спудей-латынщик. — У древних сказано: Vinum lac senum! — сиречь вино — молоко стариков! Так-то!
— В противоречиях рождается истина, — глубокомысленно согласился пан обозный.
— А истина — в вине. In vino veritas!
— От ваших непреложных истин может заболеть голова, — зажурчала частым смехом Огонь-Молодица. — Вот послушайте лучше!
И она запела.
Затем что, дай ей бог, петь она была горазда:
Ой пора в нас не така,
Щоб горілкі пити!
Краще кухоль молока
Враз перехилити:
3 молока береться сила,
Щоб ворожа рать тремтіла,
Молоко кріпить нам кров —
I на битву, й на любов!
Як настав облоги час,
Высохла горілка,
Пийте, люди, воду й квас,
Пийте с понеділка!
А у мене городяни
3 молока щоденно п’яні,—
Ну, а може, я й сама
Выбиваю ïх з ума?!
Гляну раз і гляну два
Іскрами-очима, —
Закрутилась голова
В Гриця і в Максима…
Трунок славній мій, панове, —
Бiле личко, чорні брови, —
Так заходите ж до шинка —
Скуштувати молочка!
И прибавила:
— Так-то, пане полковой обозный!
— А отчего же, — спросил Пампушка, — когда в городе нет горилки и в помине… отчего у тебя в шинке столько пьяных? Что все эти люди пили?
— Молоко пили, — блеснула зубами и очами шинкарка.
— С чего же они пьяны?
— Корова у меня, вишь, такая: хмельное дает молоко.
— Чем же ты ее кормишь?
— Рифмами!.. Стихов развелось теперь сколько хочешь. Вот я и отрезаю правый край от страничек разных поэтических книг… да и… сечкою той…
— Там же — не только рифмы? Ведь на обороте…
— Какая ж корова выдержит одни только рифмы?!
— Ты, гляди, все это, может, шутишь? — в сомнении спросил, грызя Марьянины кислички, пан полковой обозный.
— Упаси господь!
— Я таки словно хмелеть стал… — сам к себе прислушиваясь, озадаченно отметил Демид. — А на меня рифмы не действуют! С чего ж это я пьян?
— Я ведь о том целую песню спела, — развела руками шинкарочка.
— Да ну? — от души удивился пан Куча.
— Перескажи ему своими словами, без песни, — дал совет кто-то потрезвее. — Для пана обозного поэзия недосягаема, как звезды в небе для борова!