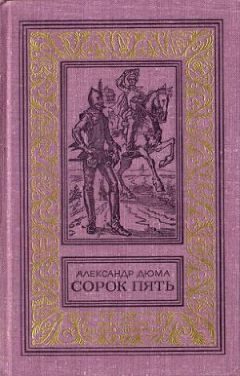– Но нет никакой надобности, чтобы ваше имя появлялось в этом деле, – ответил я. – Я беру ответственность на себя. Я оставлю лишь свое имя здесь в гостинице, где несомненно будут наводить справки.
– Конечно, это уже кое-что, – задумчиво ответил он. – Хорошо, это – неприятное дело, но я участвую в нем. Вы желаете, чтобы я выехал вместе с вами сейчас, после двух часов, не правда ли? Остальные должны быть готовы в три, так?
Я выразил свое согласие, довольный тем, что он так скоро успокоился. Обсудив еще несколько раз все подробности, мы решили удирать через Пуатье[72] и Тур[73]. Я конечно не сказал ему, почему я выбрал пристанищем Блуа, равно как не объяснил и того, что намеревался там делать, хотя он настойчиво расспрашивал меня, и мои уклончивые ответы приводили его в задумчивое, даже мрачное настроение. Вскоре после восьми мы удалились наверх спать. Люди наши расположились внизу вокруг огня, и их громкий храп, казалось, потрясал все ветхое старое здание. Хозяина нашего мы попросили не ложиться и разбудить нас, как только взойдет луна. Оказалось, однако, что я мог бы взять эту обязанность на себя: от возбуждения и всяческих сомнений я почти не мог спать и уже долго лежал с открытыми глазами, когда услышал шаги трактирщика на лестнице. Я быстро вскочил на ноги; Френуа последовал за мной. Не теряя времени на разговоры, мы сели на коней и, взяв по запасной лошади, выехали на дорогу, прежде чем луна показалась над деревьями. Достигнув ограды парка, мы сочли более благоразумным сойти с лошадей и, не встретив по пути никаких затруднений, вскоре добрались до замка, верхняя часть которого блестела ровным холодным сиянием в лучах луны.
Прекрасная ночь и безоблачное небо придавали всему этому месту нечто торжественное, и я невольно остановился на минуту, охваченный каким-то страхом и благоговением, наряду с полным сознанием той ответственности, которую готов был взять на себя. В этот короткий промежуток времени в уме моем промелькнули все предстоявшие опасности: и у меня в последний раз явилось искушение отказаться от всего этого отчаянно-безумного предприятия. В такой поздний час кровь вообще медленнее течет по жилам, а я вдобавок провел перед тем бессонную ночь и теперь находился на холодном зимнем воздухе. Только воспоминание о моем одиноком существовании, о полном лишений и неудач прошлом, о пробивавшейся в волосах седине, о мече, который я всегда носил с честью, хотя и без особенной пользы для себя, – только мысль обо всем этом вернула мне самообладание и мужество. Потом я понял, что и товарищ мой переживал нечто подобное: когда я нагнулся, чтобы спутать лошадей, он положил руку мне на плечо. Я взглянул на него: меня поразило дикое выражение его лица, столь бледного при лунном свете, и особенно глаз, блестевших, как у сумасшедшего. Он пытался говорить, но, казалось, не мог. Мне пришлось обратиться к нему с резким вопросом, прежде чем у него развязался язык. Когда он наконец заговорил, это были лишь бессвязные просьбы отказаться от предприятия, вернуться назад.
– Как, теперь? – удивленно спросил я. – Теперь, когда мы уже здесь, Френуа?
– Ах, откажитесь от этого! – крикнул он, неистово тряся мою руку. – Откажитесь! Говорю вам, плохо кончится!
– Что бы ни было, – холодно ответил я, освобождаясь от его руки, – я иду вперед. Вы, господин Френуа, можете поступать, как вам угодно.
Он вздрогнул и отвернулся от меня, но не проронил ни слова. Когда я отправился, чтобы принести лестницу с места, замеченного мною еще днем, он последовал за мной и в том же мрачном молчании сопутствовал мне назад, к дорожке под балконом. Я уже неоднократно с нетерпением поглядывал на заветное окно, но не замечал там ни света, ни малейшего движения. Хотя это могло служить признаком того, что заговор мой открыт, или же ля Вир мне не доверяет, я, не колеблясь, тихо подставил лестницу к балкону, поручая Френуа остаться внизу на страже и защищать лестницу в случае нападения.
Осторожно поднявшись и держа в левой руке меч в ножнах, я перескочил через перила балкона. Протянув руку, я нащупал покрытую свинцом оконную раму и тихонько постучал. Окно поддалось, и я вошел в комнату. Я почувствовал, как на меня легла чья-то невидимая рука: кругом было совершенно темно. Рука провела мена на два шага вперед, затем остановила внезапным движением. Я слышал, как позади меня затянули занавес. Вслед за тем кто-то снял крышку с ночника – и комната наполнилась слабым, но достаточным светом.
Я понимал, что этот затянувшийся над окном занавес отрезал мне отступление, словно закрывшаяся дверь. Но недоверие и подозрения тотчас уступили место замешательству, ощущаемому человеком в ложном положении, из которого он может освободиться только при помощи щекотливого объяснения. Я находился в длинной, узкой, невысокой комнате. Завешанная какими-то темными тканями, поглощавшими свет, она оканчивалась еще более мрачным альковом. Два-три огромных сундука, с одного из которых еще не убраны были остатки обеда, стояли вдоль стен. Посреди пола лежала грубая циновка, на которой помещались небольшой стол, кресло, ножная скамеечка, пара стульев и несколько мелких предметов, разбросанных вокруг пары до половины наполненных седельных сумок. Меньшая и более тонкая из двух виденных мною фигур стояла около стола, в дорожном плаще, с маской на лице. Молчаливый вид, с которым она рассматривала меня, и вся ее холодная, полная презрения осанка смутили меня даже больше, чем сознание того, что я потерял ключ, который мог открыть мне доступ к ее доверию. Большая фигура оказалась здоровой, краснощекой женщиной лет тридцати, с большими черными глазами, нетерпеливой и грубой в обращении, что она выказала несколько позже, когда заговорила со мной. Мои представления о Фаншетте отнюдь не соответствовали внешности этой женщины с деревенскими манерами и мужицкой речью, которая скорее походила на дуэнью[74], чем на горничную придворной красавицы.
Она стояла позади госпожи, положив свою красную грубую руку на спинку кресла, с которого барышня, очевидно, встала при моем появлении. Несколько секунд, показавшихся мне минутами, мы стояли молча, осматривая друг друга; на мой поклон мадемуазель ответила легким кивком. Она, видимо, ждала, чтобы я заговорил.
– Мадемуазель де ля Вир? – нерешительно пробормотал я.
Она вновь только кивнула головой. Я попытался говорить с большей уверенностью.
– Извините меня, мадемуазель, если я буду краток: время дорого. Лошади стоят в ста ярдах от дома; все готово к вашему бегству. Если мы двинемся сейчас же, нам удастся уйти беспрепятственно. Малейшее промедление, хотя бы на один час, и наш замысел может быть открыт.
Вместо ответа, она засмеялась под своей маской, засмеялась холодно и насмешливо.
– Вы очень спешите, сударь, – сказала она, и ее низкий чистый голос, вполне соответствовавший ее смеху, поднял в моей душе чувство гнева. – Я вас не знаю: вернее, не знаю о вас ничего такого, что давало бы вам право вмешиваться в мои дела. Вы слишком надеетесь на себя, сударь. Вы говорите, что вас направил сюда друг. Кто именно?
– Некто, кого я горжусь называть этим именем, – ответил я, призывая на помощь все свое терпение.
– Его имя!
Я твердо отвечал, что не могу назвать его, и в упор посмотрел на нее. Казалось, она на минуту смутилась и стала в тупик, но после короткого молчания продолжала:
– Куда же вы думаете отвезти меня, сударь?
– В Блуа, на квартиру одного из друзей моего друга.
– Вы смелы на словах! – ответила она с легкой усмешкой, – Вы, по-видимому, приобрели высокопоставленных друзей за последнее время… Но вы, без сомнения, имеете ко мне письмо или по крайней мере какой-нибудь знак, какое-нибудь удостоверение, какую-нибудь поруку в том, что вы действительно тот, за кого себя выдаете, господин де Марсак.
– Дело в том, мадемуазель, – заметил я, – я должен вам объяснить. Я сказал бы вам…
– Нет, сударь! – порывисто крикнула она. – Тут нечего говорить. Если вы имеете то, о чем я говорю, покажите мне. Это вы теряете время.
Я потратил не много слов и, видит Бог, и не думал тратить их много. Но, сознавая свою оплошность, я мог только изложить правду, что я и сделал с величайшим смирением:
– Я имел в своих руках тот знак, о котором вы говорите, мадемуазель: это половинка золотой монеты, врученная мне моим другом. Но, к стыду своему, я должен сознаться, что она украдена у меня…
– Украдена! – воскликнула она.
– Да, мадемуазель: поэтому я и не могу показать вам ее.
– Вы не можете показать ее? И вы осмеливаетесь явиться ко мне без нее? Вы!.. – крикнула она с такой силой, что положительно ошеломила меня, хотя я и ожидал упреков.
Едва переведя дух, она осыпала меня бранью, обозвала нахалом, человеком, сующимся не в свое дело, и наделила еще множеством эпитетов, которые мне стыдно вспомнить. При этом она обнаружила такую страстность, которая удивила бы меня даже в ее служанке, а в этом хрупком и на вид столь нежном создании совершенно смутила меня. Сознавая свою вину, я не мог, однако, понять особой горечи и надменности ее речи и смотрел на нее в немом удивлении, пока она сама не дала мне ключа к своим чувствам. В новом порыве ярости она сорвала с себя маску, и я, к удивлению своему, увидел перед собой ту самую молодую фрейлину, с которой встретился в передней короля Наваррского и которую имел несчастье подвергнуть насмешкам Матюрины.