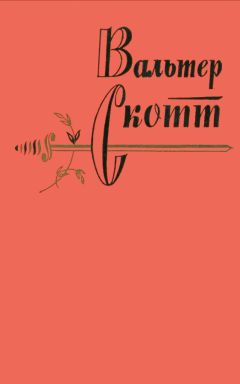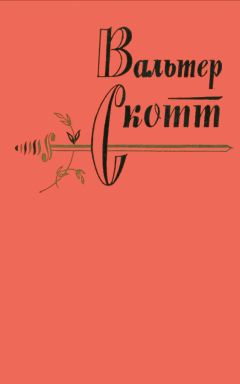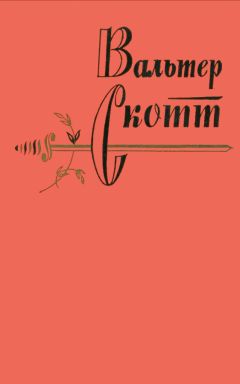— И так же устроенной внутри, Кексон. Но ступай скорей! Ты прекрасно разбираешься в общественных делах и, право же, так верно отметил причину народного недовольства, что самому мэру не сказать лучше. А все-таки убирайся скорее!
И Кексон отправился на свою трехмильную прогулку.
Он хром был, но не знал одышки
И мог шагать без передышки.
Пока Кексон проделывает оба конца, пожалуй, будет уместно познакомить читателя с теми, в чью усадьбу направлялся он со своей миссией.
Мы уже говорили, что мистер Олдбок мало общался с окрестными джентльменами, за исключением одного из них. Это был сэр Артур Уордор, баронет старинного рода, обладатель крупного состояния, обремененного, правда, различными долговыми обязательствами. Отец его, сэр Энтони, был якобитом и с энтузиазмом поддерживал эту партию, пока мог ограничиваться одними словами. Никто не выжимал апельсина с более многозначительным видом[115]. Никто не умел так ловко провозгласить опасный тост, не приходя в столкновение с уложением о наказаниях. А главное, никто не пил за успех «дела» так усердно и с таким самозабвением. Однако в 1745 году при приближении армии горцев оказалось, что пыл достойного баронета стал чуточку более умеренным как раз в такое время, когда он был бы особенно нужен. Правда, он много разглагольствовал о том, что пора бы выступить в поход за права Шотландии и Карла Стюарта[116]. Но его походное седло годилось только для одной из его лошадей, а эту лошадь никак не удавалось приучить к звукам выстрелов. Возможно, что любящий хозяин сочувствовал образу мыслей этого мудрого четвероногого и пришел к заключению, что то, чего так боялся конь, не могло быть полезным и для всадника. Так или иначе, пока сэр Энтони Уордор говорил, и пил, и медлил, решительный мэр Фейрпорта (который, как мы упоминали, был отцом антиквария) выступил из своего древнего города во главе отряда горожан-вигов[117] и немедленно, именем короля Георга II, захватил замок Нокуиннок, четырех выездных лошадей и самого владельца. Вскоре сэр Энтони по приказу министра был отправлен в лондонский Тауэр[118], и с ним поехал его сын, тогда еще юноша. Но так как не было установлено ничего похожего на открытый акт измены, отец и сын через некоторое время были освобождены и возвратились в свой Нокуиннок, где основательно пили и повествовали о своих страданиях за дело короля. У сэра Артура это настолько вошло в привычку, что и после смерти его отца нонконформистский[119] капеллан постоянно молился о восстановлении в правах законного монарха[120], о свержении узурпатора и об избавлении от жестоких и кровожадных врагов. И хотя всякая мысль о серьезном сопротивлении Ганноверскому дому[121] давно была забыта, эти изменнические молебствия сохранялись более для формы, утратив свой внутренний смысл. Это видно хотя бы из того, что, когда приблизительно в 1770 году в графстве состоялись выборы, которые потом были кассированы, достойный баронет скороговоркой прочитал клятву о непризнании Претендента[122] и преданности правящему монарху, чтобы поддержать интересовавшего его кандидата. Тем самым он отступился от наследника, о реставрации которого еженедельно молил небо, и признал узурпатора, падения которого неизменно жаждал. В дополнение к этому печальному примеру человеческого непостоянства упомянем, что сэр Артур продолжал молиться за дом Стюартов даже тогда, когда их род угас[123]; и хотя ему, при его теоретической преданности, нравилось воображать их живыми, он в то же время по своей фактической службе и практическим действиям был самым ревностным и верным подданным короля Георга III.
В остальном сэр Артур Уордор жил как большинство сельских джентльменов в Шотландии: охотился и удил рыбу, давал обеды и сам ездил на обеды, посещал скачки и собрания местного дворянства, числился административным, должностным лицом графства и попечителем по дорожным сборам. Но в более преклонных летах, став слишком ленивым и неповоротливым для развлечений на открытом воздухе, он вознаградил себя тем, что стал почитывать книги по истории Шотландии. Приобретя постепенно вкус к памятникам старины — вкус не очень глубокий и не очень верный, — он стал приятелем своего соседа мистера Олдбока из Монкбарнса и его сотоварищем по антикварным изысканиям.
Однако между этими двумя чудаками существовали и расхождения во взглядах, иногда вызывавшие размолвки. Доверчивость сэра Артура как антиквария была безгранична, тогда как мистер Олдбок (несмотря на происшествие с преторием в Кем оф Кинпрунз) был гораздо осторожнее в оценке разных преданий и не так спешил принимать их за чистую монету. Сэр Артур счел бы себя виновным в оскорблении величества, если бы усомнился в существовании хотя бы одного из властителей в колоссальном перечне ста четырех королей Шотландии, признаваемом Бойсом[124] и ставшем классическим после Бьюкэнана[125], перечне, на который Иаков VI опирался в своих притязаниях на наследие древних королей, чьи портреты до сих пор хмуро взирают со стен галереи в Холируде. Олдбок же, человек искушенный и осторожный и не слишком уважавший божественные права наследования[126], был склонен находить неясности в этом священном списке и утверждал, что чередование потомства Фергюса на страницах шотландской истории так же необоснованно и недостоверно, как призрачное шествие потомков Банко по пещере Гекаты[127].
Другим больным вопросом было доброе имя королевы Марии, которое баронет защищал самым рыцарственным образом, тогда как эсквайр порочил его, несмотря на красоту и бедствия этой дамы. Когда, к несчастью, разговор переходил на более поздние времена, поводы для разногласий возникали почти на каждой странице истории. Олдбок по своим убеждениям был ревностный пресвитерианин[128], церковный староста, сторонник принципов революции и протестантского престолонаследия, тогда как сэр Артур все это решительно отвергал. Правда, они сходились в должной любви и преданности монарху, в настоящее время занимающему трон[129], но это было единственным пунктом их единения. Поэтому часто случалось, что между ними возникали пререкания, во время которых Олдбок не всегда сдерживал свой едкий юмор, и баронету казалось, что потомок немецкого печатника, человек, чьи отцы «искали низменной дружбы ничтожных бюргеров», иной раз забывается и присваивает себе в спорах свободу, недопустимую при общественном положении и древности рода его противника. Временами все это, да еще старинная обида из-за того, что отец мистера Олдбока захватил некогда его выездных лошадей, а также усадьбу, оплот его могущества, вдруг вспоминалось баронету и воспламеняло как его щеки, так и его аргументы. И наконец, мистер Олдбок, считая своего почтенного друга и коллегу в некоторых отношениях порядочным дураком, был склонен яснее намекать ему на свое неблагоприятное мнение, чем это допускают современные правила вежливости. В таких случаях они часто расставались, проникнутые глубоким взаимным возмущением, и были близки к решению отказаться в дальнейшем от общества друг друга.