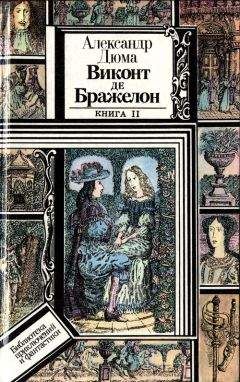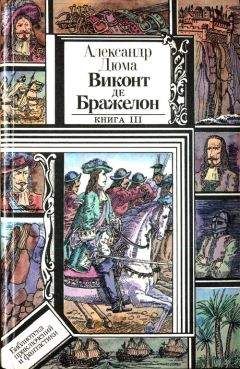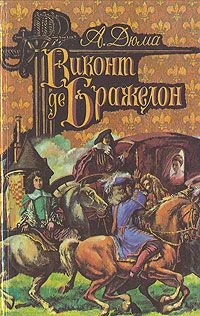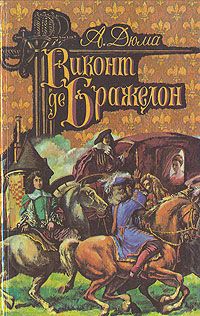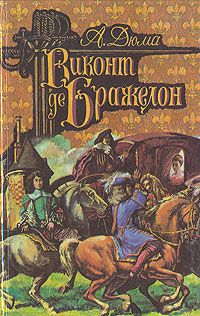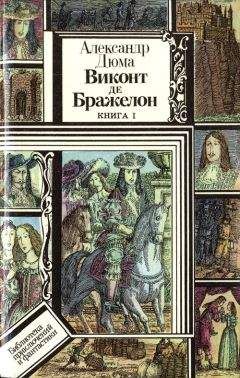— Завтра.
И отправился к художнику на улицу Жарден-Сен-Поль с просьбой отложить сеанс на два дня.
Когда Лавальер, уже освоившаяся с нижним этажом, приподняла люк и спустилась, де Сент-Эньяна не было дома. Король, по обыкновению, ждал ее у лестницы с букетом в руках; когда она сошла, Людовик обнял ее. Взволнованная Лавальер оглянулась, но, не увидев в комнате никого, кроме короля, не рассердилась.
Они сели. Людовик поместился подле подушек, на которые опустилась Лавальер, и, положив голову на колени своей возлюбленной, смотрел на нее. Казалось, наступило мгновение, когда ничто не могло больше стать между двумя душами. Луиза с упоением глядела на него. И вот из ее кротких и чистых глаз полилось пламя, потоки которого все глубже проникали в сердце короля, сначала согревая, а затем сжигая его.
Разгоряченный прикосновением к ее трепещущим коленям, замирая от счастья, когда рука Луизы опускалась на его волосы, король каждую минуту ждал появления художника или де Сент-Эньяна. В этом печальном ожидании он пытался иногда прогонять искушение, вливавшееся в его кровь, пытался усыпить сердце и чувство, отстранял действительность, чтобы погнаться за тенью.
Но дверь не открывалась. Не появлялись ни де Сент-Эньян, ни художник; портьеры не шевелились. Таинственная, полная неги тишина усыпила даже птиц в их золоченой клетке. Побежденный король повернул голову и прильнул горячими губами к рукам Лавальер; словно обезумев, она конвульсивно прижала руки к губам влюбленного короля.
Людовик упал на колени, и так как голова Лавальер по-прежнему была опущена, то его лоб оказался на уровне губ Луизы, и она в экстазе коснулась робким поцелуем ароматных волос, ласкавших ее щеки. Король заключил ее в объятия, и они обменялись тем первым жгучим поцелуем, который превращает любовь в бред.
В этот день ни де Сент-Эньян, ни художник так и не пришли.
Тяжелое и сладкое опьянение, возбуждающее чувство, вливающее в кровь тонкий яд и навевающее легкий, похожий на счастье сон, снизошло на них, подобно облаку, отделяя прошлую жизнь от жизни предстоящей.
Среди этой дремоты, полной сладких грез, непрерывный шум в верхнем этаже встревожил было Лавальер, но не способен был пробудить ее. Но так как шум продолжался и становился все явственнее, то он наконец вернул к действительности опьяненную любовью девушку. Она испуганно вскочила:
— Кто-то меня ждет наверху. Людовик, Людовик, разве вы не слышите?
— Разве мне не приходится ждать вас? — нежно остановил ее король. — Пусть и другие подождут.
Она тихо покачала головой и проговорила со слезами:
— Счастье украдкой… Моя гордость должна молчать, как и мое сердце.
Шум возобновился.
— Я слышу голос Монтале, — сказала Лавальер и стала быстро подниматься по лестнице.
Король последовал за ней, не будучи в состоянии отойти от нее и покрывая поцелуями ее руки и подол ее платья.
— Да, да, — повторяла Лавальер, уже наполовину подняв люк, — да, это голос Монтале. Должно быть, случилось что-нибудь серьезное.
— Идите, любовь моя, и возвращайтесь поскорей.
— Только не сегодня. Прощайте, прощайте!
И она еще раз нагнулась, чтобы поцеловать своего возлюбленного, а затем скрылась.
Действительно, ее ждала бледная и взволнованная Монтале.
— Скорее, скорее, — повторяла она, — он идет.
— Кто, кто идет?
— Он! Я это предвидела.
— Кто такой «он»? Да не томи меня!
— Рауль, — прошептала Монтале.
— Да, это я! — донесся веселый голос с последних ступенек парадной лестницы.
Лавальер громко вскрикнула и отступила назад.
— Это я, я дорогая Луиза! — вбегая, воскликнул Рауль. — О, я знал, что вы все еще любите меня.
Лавальер сделала испуганный жест, хотела что-то сказать, но могла произнести только:
— Нет, нет!
И упала в объятия Монтале, шепотом повторяя:
— Не подходите ко мне!
Монтале знаком остановила Рауля, который буквально окаменел на пороге.
Потом, взглянув в сторону ширмы, Монтале проговорила:
— Ах, какая неосторожная! Даже не закрыла люк!
И, быстро подбежав к ширмам, подвинула их и собиралась закрыть люк. Но в это мгновение из люка выскочил король, услышавший крик Лавальер и поспешивший к ней на помощь. Он опустился перед ней на колени, засыпая вопросами Монтале, уже потерявшую голову.
Но тут со стороны двери послышался другой отчаянный крик. Король устремился в коридор. Монтале попыталась остановить его, но напрасно. Покинув Лавальер, король выбежал из комнаты. Однако Рауль был уже далеко, и Людовик увидел только тень, скрывшуюся за поворотом коридора.
В то время как при дворе каждый был занят своим делом, какая-то фигура незаметно пробиралась по Гревской площади в уже знакомый нам дом: в день мятежа д’Артаньян осаждал его.
Фасад дома выходил на площадь Бодуайе. Этот довольно большой дом, окруженный садами и опоясанный со стороны улицы Сен-Жан скобяными лавками, защищавшими его от любопытных взоров, был заключен как бы в тройную ограду из камня, шума и зелени, как набальзамированная мумия в тройной гроб.
Упомянутый нами человек шел твердым шагом, хотя был не первой молодости. При виде его плаща кирпичного цвета и длинной шпаги, приподнимавшей этот плащ, всякий признал бы в нем искателя приключений, а рассмотрев внимательно его закрученные усы, тонкую и гладкую кожу щеки, которая виднелась из-под его широкополой шляпы, как было не предположить, что его приключения любовные?
Когда незнакомец вошел в дом, на колокольне Сен-Жерве часы пробили восемь. Через десять минут в ту же дверь постучалась дама, пришедшая в сопровождении вооруженного лакея; дверь тотчас же открыла какая-то старуха.
Войдя, дама откинула вуаль. Она уже не была красавицей, но еще сохраняла привлекательность; она уже не была молода, но была еще подвижна и представительна. Богатым и нарядным туалетом она маскировала тот возраст, который только Нинон де Ланкло[*] с улыбкой выставляла напоказ.
Едва она вошла, как описанный нами шевалье приблизился к ней и протянул руку.
— Здравствуйте, дорогая герцогиня.
— Здравствуйте, дорогой Арамис.
Шевалье провел ее в элегантно убранную гостиную, где на стеклах высоких окон догорали последние солнечные лучи, пробившиеся между темными вершинами елей.
Шевалье и дама подсели друг к другу. Ни у одного из собеседников не было желания потребовать света. Они с таким же удовольствием погрузились в сумрак, с каким оба погрузили бы друг друга в забвение.