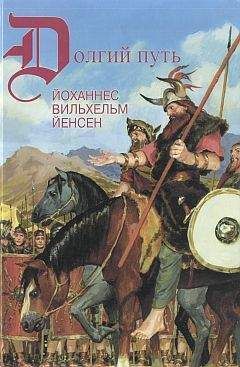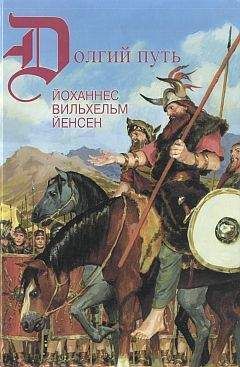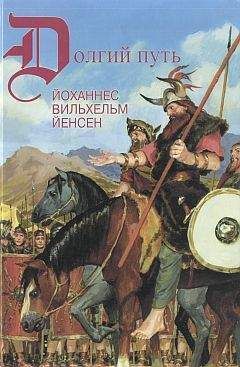Он окинул толпу взглядом, каким кабан озирает свору собак. Но никто не пикнул.
Гневное напряжение разрешилось глубокою скорбью; борода у него запрыгала, и великан разразился страшными рыданиями, отвернулся, прикрыл лицо локтем и, шатаясь, как слепой, стал подыматься по трапу. Лучшей мишени для арбалетов[18], чем его спина, и желать было нечего, когда он подымался к себе наверх, но он был теперь в безопасности от выстрелов, – у всех оставшихся на палубе руки повисли как плети. Они видели, как он вошел в свою каютку на корме и затворился там, желая быть наедине со своим горем. А они стояли, с тупым напряжением моргая глазами; пожалуй, их все-таки было слишком много, чтобы дразнить быка! Кое-кто заметил, что ладони у него в крови после схватки с Диего.
Ни словом не перемолвились между собою оставшиеся на палубе. Но очередные рулевые в тот день делали свое дело необыкновенно старательно и точнейшим образом держали курс – прямо на запад.
Те, что раньше обращали внимание на рваные башмаки адмирала, заметили в один из следующих дней, что они заплатаны, но кем? Может статься, кто– нибудь из матросов, рано утром, пока адмирал еще спал, взял да починил их, а, может быть, адмирал сам сделал это ночью, при свете фонарика, свет которого виднелся из его каюты всю ночь?
Корабли неслись вперед, подгоняемые упорным загадочным ветром, у которого как будто была какая-то таинственная цель. Настроение команды, однако, не отвечало попутному ветру: оно было мрачное, гнетущее, как у приговоренных к смерти. Признаки близости земли то появлялись, то пропадали, будили надежду, не вливавшую сил в души, проученные горьким опытом, и оставляли все более и более глубокие борозды разочарования на хмурых морщинистых лицах.
Люди начали терять твердые представления о мире, принесенные с собою, забыли Испанию, почти забыли – кто они сами; мир вставал перед ними в каком– то странном тумане, озаренный изменчивым светом, превращался в наваждение, и они все более и более подпадали под его чары, чувствовали себя в каких-то особых условиях существования, далеких от действительной, знакомой им жизни,
и не удивились бы, если бы вдруг из облаков спустилась птица Рок[19] и унесла один из кораблей в своих когтях, или из глубины волн вынырнули бы морские чудовища; их скорее удивляло, что ничего такого не случалось.
Неприязнь к адмиралу то и дело проявлялась вновь, но была какая-то вялая, бесхарактерная, – люди уже не находили в себе сил для борьбы, да и стали так ненавистны друг другу, что ни о каком сговоре не могло быть речи. С ними произошло то, что должно происходить с любым скопищем мужчин, собранных в одном месте, лишенных общества женщин и всякой возможности избегать друг друга, – они надоедают друг другу до отвращения. Матросы перестали даже разговаривать между собой, только злобно разевали рты, глядя друг на друга, – зевали, как больные, грустные хищные звери; им даже языком ворочать было слишком тяжело. Всякий старался, по возможности, поворачивать товарищам спину, избегать всякой встречи с ними на узком пространстве корабля. Некоторые забирались на кливербом и, сидя там верхом на перекладине, держась руками за тонкую веревку, наслаждались сознанием, что их отделяет от других расстояние в несколько саженей, или всласть обливались в своем одиночестве горькими слезами. Прятались также в трюме,
между балластом, или на снастях, или висели, держась за конец линя, спущенный за борт, словно вялясь на солнце, – словом, шли на все, лишь бы не видеть друг друга. Увы! Путешествие и долгое совместное сожительство открыли им глаза на самих себя!
Всякая муштровка с них соскочила; они делали свое дело лишь ровно настолько, чтобы корабль мог плыть, а это были сущие пустяки в хорошую погоду. Судно стало похоже на запущенную конюшню; матросы сами спотыкались о разбросанные всюду обглоданные кости; спать валились, где попало, почесывались, где кусало, рычали, не раскрывая глаз, если на них нечаянно наступали.
Бывали дни, когда дух жизни в них пробуждался урывками, – в дни, когда показывались птицы, или что другое напоминало им о давно покинутом и погибшем для них мире, в котором они когда-то жили, или когда адмирал снова, как заведенный автомат, болтал о земле, —идиот, а не командир, к которому они привыкли, как привыкают к голосу; в такие дни люди развлекались, загадывая: если вон тот таракан, сидящий неподвижно там-то, побежит туда-то и туда-то, то они увидят землю сегодня же, до наступления вечера; загадав, замирали, как неживые, и горе тому, кто вздумал бы потревожить таракана и тем помешать проявлению божественной воли! Бешеный рев отпугивал всех тех, кто пытался приблизиться к кучке, занятой гаданием, которое могло длиться часами, если таракан оказывался смирным и малоподвижным. Если же он бежал и бежал, куда следовало, они до вечера тешили себя надеждой, уверенные, в то же время, что она не сбудется, а если бежал не туда, надежда сразу лапалась, как и следовало.
Те из команды, в которых еще осталось нечто человеческое, ударились в набожность, не выпускали из рук распятия и обливали его слезами; покрывали поцелуями изображения Богородицы, давали благочестивые обеты. Куда-куда только не совершат они паломничества, если когда-либо вернутся в Испанию! Во вретище, босые! Не пожалеют расходов и на восковые свечи! Некоторые доходили до того, что обещали Деве Марии целых двадцать золотых, двадцать! Неужто устоит?.. Но ничто не помогало. Святая Дева устояла…
Адмирал тяжело шагал по мостику, как бык на привязи у кола; все тот же грузный мерный шаг, под которым гнулись и трещали доски и который отдавался во всех углах корабля. Чисто животное, невыносимое, тупое упрямство! Башмаки-то опять лопнули у этого быка! И весь он зарос волосами; кроме гривы да бороды, ничего и не видно; лицо стало еще непроницаемее. Как это он не додумается проверять пройденное расстояние по числу выросших у него за это время волос!
Вот где было слабое место адмирала, источник его внутреннего огорчения, которое он, разумеется, скрывал от всех: в его вычисления вкралась какая-то ошибка! Расстояние до Индии, вычисленное им заранее, не совпадало с пройденным ими расстоянием. Атлантический океан оказывался значительно шире, чем он представлял себе. Есть ли ему вообще конец? Что думать? Чему верить?
Вначале команда опасалась, что они, плывя все вперед да вперед, проткнут носом корабля небо, на них посыплются обломки, и произойдут, Бог весть, какие беды; теперь этот суеверный страх у них прошел. О, теперь они уже не верили, что есть где-нибудь край света; нет, можно плыть и плыть бесконечно, без всяких несчастий и катастроф, но зато вечно – пожалуй, до самого дня страшного суда! Как знать, может быть, они уже осуждены скитаться по морям изо дня в день, из года в год, из века в век за то, что дерзновенно попытались разгадать тайну моря? Может быть, они уже перешли из времени в вечность и не могут никогда умереть, обреченные глядеть друг на друга, плавать вместе на этом корабле веки вечные; плыть, плыть, плыть… О-о!..