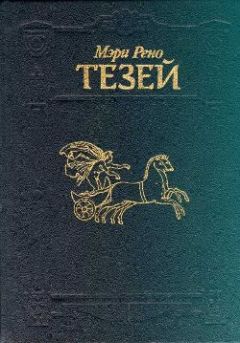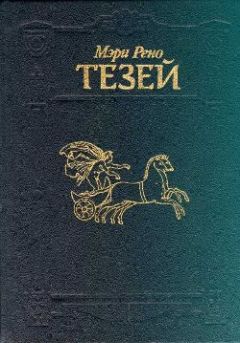В письме говорилось, что мне было знамение и предсказание — я должен спуститься в тайное святилище под землей и там очиститься перед Матерью Богов, перед которой я грешен. Я вернусь преисполненным могущества и сокрушу своих врагов, а пока мой Совет должен править страной по моим законам и отчитается передо мной, когда вернусь. Человек должен был совершить большой круговой путь, часто меняя корабли, и прийти в Афины с севера; он не будет знать, в каком именно святилище я остался, поскольку мы расстались в пути… Если его прижмут, он скажет, что в последний раз видел меня в Эпире: там, в горах, много пещер, про которые говорят, что по ним можно спуститься в царство Гадеса. С тем он уехал и сделал свое дело хорошо, впрочем и я перед ним в долгу не остался. Ни один из тех одиннадцати никогда не будет знать нужды, ни сыновья их, ни сыновья сыновей.
Я полагал — неважно, проглотят ли афиняне мою историю целиком. Вполне достаточно, если они будут знать, что я в отлучке по каким-то своим соображениям — и в свое время вернусь.
Девушки заботились обо мне от души. У них были добрые сердца; и я знал это, когда подарил им обеспеченную старость в этой тихой гавани, не подозревая, что она пригодится и мне самому. Они привели ко мне древнюю знахарку острова, и та каждый день растирала отнявшуюся половину тела вином и маслом, приговаривая, что без этого плоть мертвеет… Она знала старые легенды берегового народа, уходящие ко времени Титанов и первых людей на земле; и я, как маленький не отпускал ее, пока она мне что-нибудь не расскажет. Никогда в жизни не сидел я без дела, — разве что думал, что делать дальше, — и порой в те дни мне казалось, что день никогда не кончится… А потом он все-таки кончался, но начиналась такая же бесконечная ночь; и я лежал, глядя на звезды, и отсчитывал часы до утра…
Думал о своей жизни — о светлых и тягостных днях… О богах и о судьбе: как много в человеческой жизни и в душе заложено ими — и столько он сам для себя может сделать… Что, если бы Пириф не пришел ко мне, когда я уже собрался было на Крит? Каким человеком я стал бы? Какой сын не родился у меня на Крите в те годы, что появился Ипполит?.. Или что было бы, если бы Федра закричала: «Помогите!» — в другой день, когда у меня не было болезни землетрясения?.. Но я и сам немало сделал, чтобы стать как раз таким человеком, который услышал тогда ее крик. Судьба и воля, воля и судьба… — они как земля и небо, что вместе растят зерно. И никто не знает, чей же вкус в хлебе.
Я пробыл там уже с месяц, а может, и больше, когда это случилось. Лежал я перед утром, без сна… Петухи уже пропели, и можно было различить кромку моря на светлеющем предрассветном небе… Мысли блуждали где-то далеко, — на бычьей арене или на какой-то старой войне, — и вдруг пол под моей постелью содрогнулся и с подставки возле меня упала чашка. Дом наполнился голосами разбуженных людей, они молились Сотрясателю Земли Посейдону… Вновь закричали петухи, я вспомнил, как беспокойны они были перед тем, как кричали все разом… Им бог послал свое предупреждение, а мне — нет.
Так я узнал, кто поразил меня и за что: он отверг своего сына, как я отверг своего.
Одна из женщин вошла посмотреть, не повредил ли мне толчок; подняла упавшую чашку, вышла… Когда все снова успокоились, я приподнялся немного на здоровой руке и посмотрел на стол в другом конце комнаты: там лежал нож, которым мне резали еду. Я подумал: если скатиться с кровати и потом по полу доползти, то наверняка смогу до него дотянуться. Земля слишком долго носила меня и устала от моей тяжести…
Чтобы повернуться, мне надо было переложить здоровой рукой неподвижную левую… И вот, принявшись за это дело, я увидел, что левая тоже двигается, вместе с правой. Чуть-чуть, едва заметно, но пальцы распрямлялись и сгибались, подчиняясь моей воле. Я ощупал их — они ощущали касание, хотя и слабо… Жизнь возвращалась в них.
Поднималось солнце… Я подумал об Афинах, обо всем, что я там построил… И хотя божьей благодати больше не было со мной — всё во мне кричало: «Это мое!»… И я остался жить. И ждать.
Проходили долгие месяцы; и медленно, мало-помалу в омертвевшие члены вползала жизнь, как впитывается сок в иссохшее дерево. Когда вернулось осязание и движение — еще долго мне пришлось ждать, пока в мышцах появилась хоть какая-то сила. Сначала я поднимался, опираясь на двух человек, потом на одного, потом — держась за стул; но и с этих пор прошел еще целый год, пока я смог ходить сам. Да и тогда одна нога волочилась, и это так и не прошло до конца.
Однажды весной я позвал женщин, чтобы они привели мне в порядок волосы и бороду, — и велел подать зеркало. Я был почти совсем седой и выглядел на десять лет старше… Левый угол рта и левый глаз были слегка скошены книзу, так что эта часть лица выглядела печальной, но, по-видимому, люди все-таки будут узнавать меня. Собравшись, я взял свой посох и вышел без чьей-либо помощи наружу, в солнечный день, — меня встретили ликованием.
В тот вечер я вызвал своего штурмана Идая:
— Готовься, — говорю, — скоро пойдем домой.
— И я так думаю, что пора, государь.
Я спросил, что он имеет в виду. Он сказал, что в Афинах что-то неладно, беспорядки какие-то вроде… Но, мол, люди, от которых он это слышал, — безграмотные островитяне и ничего толком не знают.
Когда мои люди появлялись и исчезали в других местах, они мудро держались так близко к правде, как только могли: рассказывали, что они мои матросы и что я оставил их на острове содержать базу для кораблей. Частные владения мало кого интересуют, — потому никто их не трогал, — а они могли спрашивать, что обо мне слышно, и узнавать, что говорят.
Раньше Идай делал вид, что передает мне всё; но теперь сознался, что знал недобрые слухи об Афинах уже в течение года.
— Мой господин, ведь я тебя знаю. Ты делал бы слишком много или слишком мало, — но так или иначе ты навлек бы на себя смерть. Я готов держать ответ. Я делал как лучше.
Я уже почти забыл то время, когда другие решали, что для меня лучше; но слишком многим был ему обязан, чтобы рассердиться на него. Ему казалось, что он прав; и я до сих пор рад, что мы расстались друзьями.
Но когда я попал в Афины — не раз пожалел, что не умер там на острове от руки бога; говорят, второй удар убивает всегда… Пока я был там, и сидел возле окна, и глядел, как цикада обгрызает лист или ящерица ловит мух, — я думал, что несчастен. Но мысленно я владел плодами трудов всей моей жизни — и был уверен, что когда придет время вернуться, найду свое царство в прежнем величии… Я и не подозревал тогда, насколько был богат.
Что за человек Менестей?.. Так Ипполит однажды спросил; он разглядел этого человека лучше чем я, но все-таки не до конца. Он был слишком простодушен, и видел в каждом человеке не его самого, а божье дитя, рвущееся на волю; он посвятил всего себя богам света — и никогда бы не смог постичь темные тайны того лабиринта запутанных страстей и побуждений, которые непонятны даже самим себе. Нет, даже он, будь он царем, не смог бы понять, с чем ему приходится иметь дело. Быть может, кто-нибудь из любивших его богов вступился бы за него… За меня не вступился ни один.