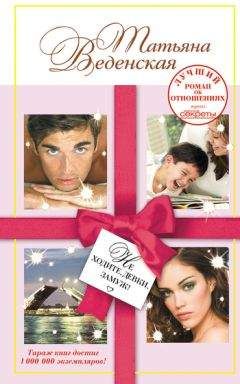К этому амбару и шел Гриня, не оглядываясь, но чутко прислушиваясь — поскрипывают ли за ним шаги Дарьи по снегу?
Поскрипывали…
Остановился возле подгнившего порожка, замер, набычив голову, как перед дракой, и резко обернулся. Молча ухватил Дарью за рукава шубейки и вдернул следом за собой в амбар, притиснул к стене, вздрагивающими руками принялся нашаривать большие костяные пуговицы. Дарья даже не охнула, только ярко, как у кошки, вспыхивали в потемках широко распахнутые глаза.
Стояла она безвольно, ослабнув телом, вся — податливая, и молчала, словно лишилась голоса. Вдруг вскинула руки, сомкнула их в тесное кольцо на шее Грини, и приникла к нему так близко, что он ощутил, как вздрагивают у нее колени.
Сникла гордая и норовистая красавица, и волен был сейчас Гриня делать с ней все, что угодно. Он распахнул, наконец-то, шубейку, сунул руки в тепло девичьего тела и отдернул их, будто обжегся, — увидел в проеме обвислой двери старого амбара, в сумерках, белого коня. Тот шел неторопливой и легкой рысью совсем недалеко. Юная всадница на коне в этот раз не смеялась, она лишь зазывно взмахивала рукой, словно приглашала последовать за собой.
Гриня вылетел из амбара, как пуля, бросился вслед за белым конем и за белой всадницей, летел, отмахивая молодыми ногами огромные скачки, но напрасно — не догнал. И долго стоял в чистом поле, не ощущая самого себя, словно все еще бежал, задыхаясь, хотя не было видно ни коня, ни всадницы.
Окольным путем, чтобы не пересечься с Дарьей, вернулся Гриня домой и, отказавшись от ужина, собрался спать. Но его призвал к себе в горницу Матвей Петрович и сурово известил:
— К Дашке больше не вяжись, с гонором девка, не будет с нее толку. Сядет на шею — хуже хомута, в кровь изотрет. А в Никольск послезавтра отправишься, пока морозы не стукнули и дороги не перемело. Теперь слушай, чего тебе сделать там надобно…
Следующий день прошел в сборах.
Попутно, чтобы порожняком туда-сюда не гонять, в сани уложили мерзлые овечьи шкуры, которые Гриня должен был доставить в Никольске скорняку, у которого и фамилия была самая что ни на есть подходящая — Скорняков. С ним у Матвея Петровича имелся давний договор, обоюдно выгодный для каждой стороны: одному шкуры нужны для его изделий, а другому деньги не помешают.
И никто из домашних, кроме Грини и Матвея Петровича, даже не догадывался, что в нынешнем году доставка шкур для скорняка лишь предлог для более важного и скрытного дела.
Вечером хорошенько накормили коня на дальнюю дорогу, а утром, еще потемну, Гриня выехал из ограды и, ловко устроившись на мягком сене в передке розвальней, запрокинул голову и стал смотреть в небо, на котором начинали блекнуть перед рассветом крупные звезды. Под полозьями и под конскими копытами сухо поскрипывал снег, шуршало пахучее на морозе сено, отдалялся и затихал, оставаясь за спиной, редкий собачий лай.
Хорошо было ехать, в полное свое удовольствие — сам себе хозяин и никто над душой не стоит.
И думалось тоже складно и вольно.
Сначала он думал про Дарью, которая раньше не давала ему покоя и даже по ночам являлась в жарких, порою таких стыдных снах, что о них и рассказать никому нельзя; и чем яростней он желал быть с ней рядом, тем обидней она над ним подсмеивалась, а позавчера, будто переродившись, послушно пошла за ним к амбару, таяла в его руках, как восковая свечка тает от огонька. И случилось бы наверняка самое тайное и желанное, если бы не появился белый конь со своей всадницей. И теперь еще стоят они перед глазами, а в воздухе, извиваясь, струится белый шарф, тот самый, который он своими руками привязал к сосне на дальнем увале…
И не было у него сейчас никакого иного желания, кроме одного — снова увидеть девушку на коне и последовать за ней в любую сторону. А Дарья… С Дарьей странная штука, будто на костер, еще вчера полыхавший, ведро воды опрокинули. Он и потух разом. Угли и те не шают. Чудно!
Дальше Гриня думал про город, в котором очень любил бывать. И с плотами туда сплавлялся не раз, и по зиме ездил, и всегда с любопытством вглядывался в городскую жизнь — шумную, бойкую, пеструю. Все там шевелилось, кипело, бурлило, и хотелось с головой нырнуть в эту жизнь, такую манящую и веселую.
И лишь об одном не думал Гриня — о том деле, которое поручил ему дед. Не думал по той простой причине, что не знал, как его исполнить. Дед лишь сказал, как всегда, немногословно — изворачивайся, как можешь, а дело сделай. А как извернуться — не посоветовал. Но Гриня ни капли не горевал: чего, спрашивается, раньше времени голову забивать лишними переживаниями, вот приедет в город, оглядится, тогда само придумается. У него всегда так бывало — как до края доберется, так сразу и умная догадка осенит. Уверен был, что и в этот раз осечки не случится. Все он сделает легко и играючи.
Утренние сумерки между тем проредились до светлой голубизны, обозначилась по правую руку длинная полоса студеной зари, морозец покрепчал, и снег под копытами и под полозьями зазвучал громче.
Новый день начинался.
Скоро Гриня выбрался на прямоезжий тракт, ведущий до Никольска, и здесь уже раздумывать стало некогда. Не зевай, гляди во все гляделки, иначе зацепится дурной лихач за розвальни — беды не оберешься. Особо рьяные удальцы летели на своих тройках по тракту столь стремительно, будто их из тугого лука выстрелили.
Но все обошлось, никакой оплошности не случилось, к вечеру Гриня добрался до постоялого двора, переночевал, а на следующий день, после обеда, был уже в Никольске.
Большой двухэтажный дом Скорнякова стоял недалеко от железнодорожной станции, и когда Гриня подъехал к высоким глухим воротам, донесся длинный, протяжный паровозный гудок — будто оповестили, что гость пожаловал. Но ворота открывать не торопились. Гриня постучал раз, другой — никто ему навстречу не вышел. Тогда он толкнул узкую калитку с толстым железным кольцом, и она перед ним бесшумно и гостеприимно распахнулась. На просторном дворе, выложенном булыжником и старательно очищенном от снега, никого не было, лишь два растрепанных воробья суетливо прискакивали в дальнем углу, где росла высокая рябина, и клевали опавшие ягоды.
Гриня шагнул во двор, остановился и громко позвал:
— Хозяева!
Ему никто не отозвался. Тогда он прошел через двор, поднялся на высокое крыльцо и дернул за витую веревочку, на конце которой висел медный шарик, — знал, по прошлым приездам в город, что после этого должен зазвенеть звонок.
Но и после звонка никто не вышел и не подал голоса.
Гриня потоптался на крыльце, еще раз дернул за веревочку и едва успел отскочить в сторону — широкая, толстая дверь, украшенная снаружи коваными железными завитушками, отлетела настежь, грохнула о стенку сеней, будто из пушки пальнули, и вылетел из нее, перебирая ногами в воздухе, неведомый человек в длинном черном пальто. Полы этого пальто взметнулись, как крылья, и человек продолжил полет, минуя все ступеньки высокого крыльца. Рухнул прямо на булыжник и растянулся черной кляксой. «Убился!» — беззвучно ахнул Гриня. Но человек бойко вскочил и, прихрамывая, шустро кинулся к распахнутой калитке. Нырнул в нее и исчез.