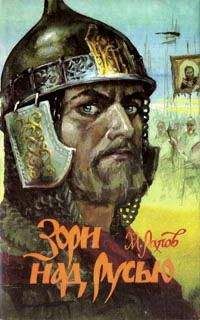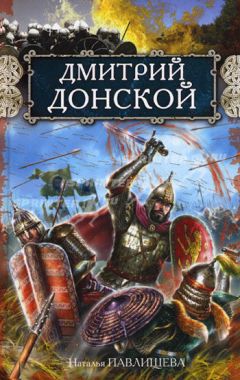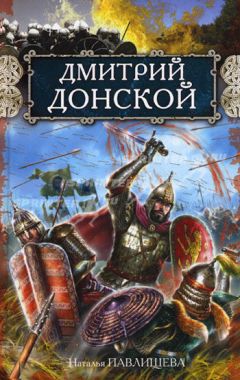— Не бывал мне поганый еретик товарищем, — снова завопил поп, но Пимен не стал слушать его вопли, приказал:
— Волоки его к оконцу.
Илья подошел сам, спросил хмуро:
— Зачем я тебе, отец архимандрит, понадобился?
Пимен начал было приглядываться, но Илья подался назад, только два глаза горели из полумрака. Так и не разглядев его лица, Пимен сказал:
— Мне смелые людишки надобны, а ты, еретик, не трус?
— Не трус и не еретик! Еретики вы все…
— Я с тобой не спорить пришел, — оборвал Пимен, — слушай, бери в разум: из сруба тебя монахи не выпустят.
— Нет, куды там, — подтвердил Илья.
— А я выпущу и к себе на службишку возьму, но и ты, что прикажу, сделаешь.
Злым, лающим смехом отозвался Илья:
— Значит, ножам кого пырнуть аль корешки подсыпать — мое дело будет?
— Твое. И чтоб не умствовать у меня, догадлив больно…
— К чему умствовать, — тихим голосом начал Илья, — я и без того насквозь тебя вижу, святой отец, правду я мужикам говорил: «Не кормите монахов — слуг сатанинских». Боярам да князьям учиться у вас злодействам пристало! Пауки! Аспиды! Василиски! — гремел Илья в исступлении.
Пимен сперва попятился, потом бросился к срубу, несколькими ударами задвинул доску волокового оконца. Крики Ильи стали глуше.
Осторожно, с оглядкой к Пимену подошел игумен.
— Что скажешь, отче?
Пимен круто повернулся к нему, негромко, но яростно прохрипел:
— Попа выпустить, еретика удавить!
Игумен покачал головой.
— Он и сам не долго протянет, а давить негоже: грех.
— Нельзя ждать! Язык у него длинный!
— Что ж, — понимающе откликнулся игумен, — язык укоротить можно. Небось, с резаным языком немного наговорит…
С тяжелым грохотом опрокидываются на берег косматые от пены валы, разбиваются, катятся назад. Вслед за ними шелестит галька. Не по–летнему разбушевалось Черное море, такая буря осенним месяцам под стать.
Поп Митяй мечется по берегу потный, злой и для спутников своих страшный. Только генуэзец–кормчий присел на камень, жует овечий сыр и с любопытством посматривает на попа. Здесь, в Каффе, генуэзец — хозяин. Сказал: «Не поведу корабль, пока не стихнет». — И сколько бы ни бесновался поп Митяй, корабль останется в гавани Каффы.
К Митяю подошел архимандрит Пимен, начал уговаривать:
— Почто, владыко, сердце себе травишь? Не век быть буре. Дай волне самую малость поутихнуть, мы не мешкая на корабль сядем, птицей он в Царьград полетит.
Митяй остановился, посмотрел пустыми глазами на Пимена.
— Дивлюсь тебе, архимандрит Переславский, дивлюсь! Ведь знаешь, что Дионисия князь отпустил.
— Знаю! И ты, владыко, знаешь, что мне про то ведомо, о чем же толковать?
— Как о чем? Ведь Дионисий…
— Знаю, Дионисий князю поклялся к Царьграду без его слова не идти, а вернулся в Новгород Нижний и солживил, недели не промедлив, в Царьград побежал. Мы вышли позже, но Дионисий кружным путем по Волге бежит, а мы прямо шли.
Митяй топнул.
— Мамай нас задержал!
— На много ли? Пустое!
Прищурясь, подозрительно поглядывая на Пимена, Митяй отошел на пару шагов, вернулся, сказал в раздумье:
— Думаешь, не обогнал нас Дионисий?
— Не обогнал.
Подойдя вплотную, Митяй неожиданно спросил о другом:
— Худо было попу Ивану в срубе сидеть?
— Худо! Как в могиле!
— Дай срок, обогнал нас Дионисий али нет, а в срубе ему сидеть!
— Твоя воля, владыко.
Митяй опять топнул.
— Ты другое разумей. Бурю пережидать ты меня уговариваешь. С каким умыслом? То ли в самом деле обо мне тревожишься, то ли за свой живот опасаешься, а может, ты с Дионисием заодно! А?
Судорога пробежала по лицу Митяя.
— Смотри, отче Пимен, не сесть бы тебе в сруб заодно с Дионисием. Вдвоем, чаю, веселее будет.
Пимен ответил побелевшими губами:
— Если сидеть мне в срубе, так одному.
— Аль Дионисий тебе не товарищ?
— Ты, владыко, и сам про это знаешь, да суть не в том, кто кому в товарищи сгодится.
— В чем?
— А в том, что не видать Дионисию сруба. Корешки от попа Ивана я тебе привез, так мне ли не знать, про кого они припасены.
Митяй недобро усмехнулся, отвел глаза в сторону:
— Ты прав, знаешь ты много, — еще раз усмехнулся, хуже прежнего, — слишком много знаешь.
Пимен отступил на шаг, положил ладонь на грудь, там, где испуганно трепетало сердце. Митяй сразу забыл о Пимене, скорым шагом пошел к кормчему.
— Не везешь?
Генуэзец только головой мотнул.
— Ладно! — возвысил голос Митяй. — Отсель до Сурожа недалече, туда пойду, авось там настоящий кормчий найдется.
Генуэзец перестал жевать.
— В Сурож?
— В Сурож! И медлить не буду.
Кормчий поднялся.
— Коли так, поп, едем. К обеду корабль будет тебе готов, но обедать своим людям запрети, все равно еда назад пойдет.
— Не твоя печаль, кормчий.
— Не моя, — кормчий хлопнул себя по животу, — мой сыр при мне и останется.
Поп Митяй засмеялся. Доволен был поп, ему и в голову не пришло оглянуться на Пимена, а тот стоял, все еще прижимая ладонь к груди, но о сердце Пимен уже забыл… под ладонью он ощущал твердый комочек: то был утаенный, на всякий случай, корешок попа Ивана.
Черным истуканом стоял на носу корабля поп Митяй. Далеко впереди, в мерцающем зное проглядывала полоска берега. Там лежала Византия, там был Царьград. Вцепившись руками в нагретое солнцем дерево борта, Митяй глядел вперед, глядел до боли в глазах. Хотелось верить, что берег пусть медленно, но приближается, а берег был все там же, в недосягаемой дали.
Ветер! Куда делся ветер? Давно ли в Каффе ревела буря, а сейчас сонные маслянистые волны мертвой зыби поднимают и опускают, поднимают и опускают корабль до тошноты, до одури.
Митяй стоял один. Спутники его, опасаясь бешеных вспышек гнева, собрались на корме. Каждый молча думал свою думу.
Наконец архимандрит Пимен, шумно вздохнув, сказал:
— Бог не хочет, чтоб Митяй до Царьграда добрался. Не хочет явно. Сперва бурю на нас наслал, теперь тишь.
Со страхом поглядел на Пимена Дорофей — печатник митрополичий, отступил в сторону архимандрит Коломенский Мартын, а Петровский архимандрит Иван бочком, по борту стал пробираться к носу корабля.
Пимен ткнул в его сторону перстом:
— Сам то ж думает, а доносить пошел.