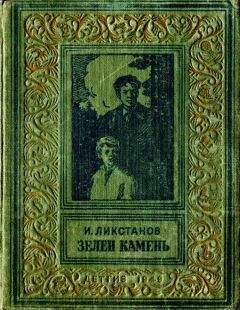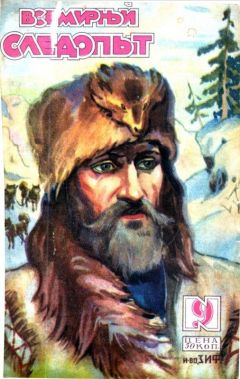— А зачем шли? — сурово спросил человек в накомарнике. — Кто же после драки кулаками машет? Эх, дядя, елова твоя голова!..
— Мы не шли! Нас силой повели! — обидчиво ответил мужичонка. — Мы тогда поручику прямо сказали: «Мы, хлебопашцы, привыкли около землицы ходить. Нам заводская работа несподручна. На завод не пойдем!» Так их благородие и отъехали ни с чем. А далее вот что было. В самый Еремей-запрягальник[2], когда ленивая соха и та в поле, наехали на село драгуны. Чистое мамаево нашествие! Старосту батогами били, зачем царицыного указа ослушался. Мужиков тоже пороли — на заводе работай-де, а не на пашне. Потом мужиков хватать начали, ребят, кои повзрослее, тоже позабирали, в колодки забили, на подводы побросали. Езжай! Вот и едем! В Катеринбурге только колодки сняли, когда люди мереть начали. А ты говоришь — зачем шли? Не пойди тут!
Мужичонка затяжно закашлялся, навалившись на телегу. Отдышавшись, робко спросил:
— На заводе, чай, не сладко? Не слышал?
— Чего слышать, сам работал, — хмуро ответил человек в накомарнике. — Сам в заводской кабале мучился. Есть-спать некогда. Утром приказчик, как собак, работных плетью пересчитывает. На цепь сажают, в шейные и ножные железа куют, кнутом за малую провинность секут.
— Исусе Христе! — испуганно прошептал мужичонка.
— Не любо на заводе работать, в рудники пошлют. К тачке прикуют! Ровщики-рудокопы света белого не видят, так под землей и живут — хозяину руду добывают.
— Не пойдем ни на завод, ни в рудники! — внезапно, с ярой ненавистью крикнул мужичонка.
Человек в накомарнике не ответил. Он потянул сетку книзу, открыв загорелый, в оспинах лоб и черные с желтизной, шустрые глаза. Долго, пытливо смотрел он на оторопевшего мужика и обнял его за плечи:
— Тебя как кличут-то, провора?
— Семен, а по прозвищу Хват.
Человек в накомарнике улыбнулся глазами: не шло это прозвище к тщедушной, болезненной фигуре мужика.
— Слушай меня, провора, в оба уха. Слушай и другим мужикам передай. Указ есть о том, чтоб приписным мужикам по домам с заводов расходиться и снова на пашню оседать. И заводские мужики тоже от работ ослобоняются, и билет в том получают на вечную вольность.
Семен Хват испуганно отшатнулся.
— Чей указ? А ты сам-то его видал?
— Видел я его, провора. Чей указ? За подписанием амператора Петра Федоровича собственной руки. Указ тот велит крестьянам под заводами не быть, работным людям тоже, а работать только по вольному найму.
— Чего голову морочишь? — враждебно зашептал мужичонка. — Вона какой ты заслух пущаешь. Нам, дуракам, ум мутишь. Какой Петр Федорович? У нас сейчас царица, Катерина. А царь Петр Федорович умер...
— Жив! Жив царь Петр, мужицкий царь, надежа крестьянская! — тихо, но горячо сказал человек в накомарнике и снова обнял Семена за плечи. — Слушай, говорю, и для нас солнце взошло.
У казаков, на Яике, царь Петр спасался. А сейчас казацкая беднота, по его царскому приказанию, против старшинской стороны, против казаков-богатеев и петербургских генералов бунт подняла. К казакам орда пристала: башкирцы, калмыки, киргизы. Работные заводские люди тоже. Недалече отсюда Златоустовский и Саткинский купца Лугинина заводы взбунтовались. Власть по народному выбору поставили. Мир закачался, провора! Тряхнем теперь бар, помещиков да заводчиков-кровососов! Хватит, попановали.
— Мир, говоришь, закачался? — сдавленно прохрипел Хват и положил руку на топорище, затертое до лоска. — В топоры их, иродов! Топор на шест насажу, вот тебе и секира будет!
— О чем разговор ведете? — послышался сзади строгий голос.
Оба испуганно обернулись. Около телеги стоял старый капрал, сопровождавший обоз. Он смотрел сурово и подозрительно.
— О том разговор, — нашелся человек в накомарнике, — зачем мертвяков с собой волокете? Земле предать их надо. Не след над покойниками измываться. Иль живых не хватает?
Капрал важно разгладил седые прокуренные усы.
— Воинского артикула не знаешь, парень. Солдат должен выполнять приказ начальников столь скоро и столь точно, сколь можно. Сдали мне людей по счету, по счету и я их управителю заводскому сдам. А живые они или мертвые, меня не касаемо.
Человек в накомарнике засмеялся. Смех его был спокойный и невеселый.
— А на что твоему управителю тухлое мясо? Собак кормить?
— Попридержи язык, парень! — прикрикнул капрал и вдруг схватил незнакомца за рукав. — А ты кто такой? Знаешь, что за такие слова бывает? Солдат крикну! В колодки забью!
Человек в накомарнике спокойно отстранил капрала.
— Отзынь, служба. Не пугай. Мало ли что с перепугу стрястись может. Медведь покрепче меня, и с тем с испугу-то знаешь, что бывает? А есть я караванный приказчик с Источенского завода. Ездил на Белую барки смотреть. Еще чего знать хочешь, провора?
— Чего на тракту делаешь? Разбойным делом промышляешь? Ась?
— Дурак ты, служба, хоть усы у тебя и сивые. На попас остановился, коня подкормить.
— А чего морду под сеткой скрыл?
— Известно чего. Комар жигает. Да ты чего прилип ко мне как банный лист?
— Ну, то-то! — капрал хлопнул собеседника по плечу. — А ты не серчай, парень. Ноне с народом ухо востро держать надо. Время бунташное.
Человек в накомарнике кинул на капрала сметливый и хитрый взгляд.
— Бунташное, говоришь, время? А разве чего слышал, господин капрал?
Капрал замялся и нестрого погрозил пальцем.
— Не проведешь, парень. С алтыном под полтину подъехать хочешь? Те слухи не для твоих ушей.
— Верно, служба, помолчи! А то и тебя батогами спрыснут, не посмотрят на мундир... А мы тоже не святый боже. Без тебя узнаем, что нам надобно.
Незнакомец круто повернулся и зашагал к ручью. Старый капрал долго смотрел ему вслед.
У ручья было пусто и тихо. По-прежнему шептались березы, ныли комары, да сытно фыркал где-то пасущийся жеребец. Берега ручья были истоптаны, вода бежала мутная, грязная, не было видно золотистого песчаного дна. Человек в накомарнике покачал головой и запел:
Черный ворон воду пил,
Воду пил. Он испил, возмутил,
Возмутил...
Потом вдруг оборвал песню и ласково посвистал. Жеребец всхрапнул, зашумел, продираясь сквозь кусты, и как вкопанный остановился около хозяина. Ловко прыгнув в седло, человек в накомарнике снова спустился на тракт. Медленно, шагом ехал вдоль обоза, кого-то отыскивая взглядом. Тихо, про себя, напевал:
Возмутивши улетел,
Улетел.
На лету речь говорил,
Говорил...
Около телеги с мертвецами натянул повод. По-прежнему горела свеча в головах покойников. На веки их кто-то положил медные гроши. Под телегой, укрываясь от солнца, лежал на разостланном армяке Семен Хват. Он не спал. Тоскливыми, страдающими глазами глядел в глубь леса, подступившего к тракту.