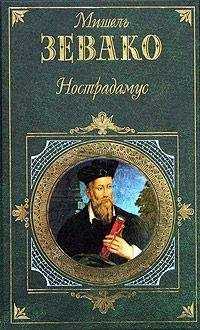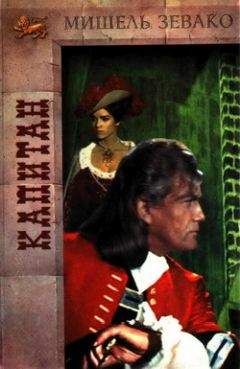Она осуждена… Она скоро умрет!
Бьет девять часов. Слышен погребальный звон, пение «De profundis» note 2 — это движется похоронная процессия.
Монахи, судебный врач, конвоиры, главный судья…
За ними, поддерживаемая двумя священниками, Леонора — с распущенными волосами, босая, голова поникла.
А следом идет ее любовник, мрачный, постаревший, с искаженным лицом. Неумолимый приказ пришел из Рима от Святой Инквизиции: необходимо, чтобы его присутствие и безразличие доказали миру — еретичка лгала, обвинив епископа рядом с Престолом Господним!
Глубокий вздох проносится над толпой — Леонора остановилась под виселицей. Принц Фарнезе опускает глаза и замирает. Все обнажают головы.
Над Гревской площадью слышится сочувственный ропот. Как! Такой юной, такой прекрасной суждено умереть столь ужасной смертью! Вдруг все застывает в страшном молчании — главный судья дает роковой знак. Подходит палач, его широкая рука опускается на обнаженное плечо приговоренной, он хватает и тащит ее… Сейчас он накинет ей на шею веревку… Ужасное мгновение!
Внезапно Леонора рывком освобождается от зловещих объятий и опускается на землю. Один за другим два коротких, пронзительных, душераздирающих крика срываются с ее сжатых губ. Все матери, находящиеся на Гревской площади, вздрагивают от изумления… Ведь эти крики… Ах! Это не предсмертные стоны, это стоны страшного и святого страдания!
Эта женщина, которая сейчас должна умереть, здесь, под болтающейся веревкой, корчится в родовых муках.
Палач отшатывается. Судебный врач бросается вперед, опускается на колени, а над площадью вздымается шквал голосов. И когда врач наконец поднимается, люди, стоящие вокруг бесчувственной Леоноры, видят крошечное существо, которое кричит, плачет и тянет свои ручонки, как будто говоря этой громадной толпе: «Я не виноват! Позвольте мне жить!»
— Девочка! Это девочка! — восклицает какая-то женщина.
Люди вокруг стоят, затаив дыхание. Потом внезапно жалость словно выходит из берегов, взрывается и шумит, как река в половодье, Буря волнения захлестывает площадь. Слышны мольбы, угрозы, слова сострадания к матери.
Главный судья сомневается… затем, побежденный бесконечным сочувствием народа, отдает приказ сохранить осужденной жизнь. В толпе раздаются радостные возгласы, мужчины плачут, незнакомые женщины обнимаются. Бесчувственную Леонору уносят на руках, а дитя…
А дитя остается? Осужденная не имеет права воспитывать свою дочь в тюрьме. Невинное создание отдано на милость публики. В течение часа девочка останется лежать там, где родилась: под виселицей. Люди подходят и смотрят с суеверным страхом на несчастную крошку, которая ждет, что кто-нибудь из милосердия возьмет ее к себе. Все вокруг жалеют ее, но никто не решается удочерить. Дочь еретички, преступницы, она принесет в дом несчастье…
А Фарнезе? Жан де Кервилье? Отец? Он здесь — весь в испарине, задыхающийся, униженный, связанный покорностью ужасному приказу, пожирает глазами плоть от плоти своей. Он хочет взять свое дитя, унести его, но не может, не смеет! Так что же? Мать помиловали, а дочь погибнет? Нет! О нет!
Наконец кто-то подходит, склоняется над девочкой, улыбаясь сквозь слезы, и, словно давая публике урок милосердия, тихо шепчет:
— Бедная фиалочка, ты выросла под деревом бесчестья… никто не хочет тебя знать… Ну, так я возьму тебя, будешь мне дочерью!
Осторожно и нежно спаситель заворачивает девочку в свой плащ и, пока епископ, удерживаемый инквизиторами, рыдает, ломая руки, человек удаляется, унося с собой дочь принца Фарнезе. И кто же этот спаситель? Палач!
Утром двенадцатого мая 1588 года шестеро дворян на взмыленных скакунах во весь опор поднимались на гору Шайо. На вершине их предводитель остановился. Смертельно бледный, он обернулся назад и долго смотрел на Париж.
Странный шум и глухие звуки перестрелки доносились до него с порывами ветра. Звук был похож на гул отдаленного морского прибоя или рев разбушевавшейся толпы. Беглец, издав хриплый стон, угрожающе сжал кулаки, привстал в стременах и прокричал слова, которые унес ветер и которые подобрал Историк:
— Неблагодарный город! Вероломный город! Я любил тебя больше собственной жены — а ты… Трепещи, я вернусь в твои стены и силой оружия заставлю тебя покориться!
В это мгновение показались два всадника. Одним из них был мужчина чуть старше тридцати, красивый и сильный; лицо его, высокомерное и насмешливое, светилось умом и проницательностью. Другим был юноша лет восемнадцати, стройный и изящный; в его красоте сочетались нежность и отвага.
Пятеро дворян, завидев незнакомцев, окружили своего предводителя и постарались увлечь его за собой. Но он, воздев руки к небу, громко воскликнул:
— Я проклят! Все меня покинули! О, кто теперь смилуется надо мной?
— Я! — ответил звонкий голос.
К беглецу приближался один из незнакомцев, тот, что был моложе. Внезапный и необъяснимый ужас выразился в безумном взгляде беглеца; он взмахнул руками, словно для того, чтобы отогнать мрачное видение, и прошептал побледневшими губами:
— Ты! Ты! Карл! Брат мой, ты восстал из могилы, чтобы осудить меня?
— Вы ошибаетесь, — ответил юноша. — Я не тот, кого воскрешает ваша неспокойная совесть, я не Карл IX.
— Так кто же ты в таком случае?
— Я его сын, герцог Ангулемский.
— Ах! — пробормотал беглец. — Это ты, дитя Мари Туше и Карла! Говори же, чего ты от меня хочешь! О чем ты пришел спросить Генриха III, короля Франции?
— И я вам отвечу. Я покинул Орлеан, чтобы встретиться с вами лицом к лицу. Неделю назад, сир, в тот день, когда я достиг совершеннолетия, моя мать провела меня в свою спальню и открыла передо мною портрет, который я всегда видел затянутым крепом. Я узнал Карла IX.
— Брат мой! — пробормотал Генрих III.
— Да, ваш брат!.. Моя мать опустилась на колени и поведала мне, как умер человек, которого она обожала. Я узнал о предсмертных муках моего отца. Я узнал, что отчаявшийся, жалкий, ввергнутый в безумие, он каждым вздохом в последний час своей жизни предъявлял грозные обвинения трем палачам, трем демонам, на которых она мне указала… И я отправился в путь, чтобы сказать герцогу де Гизу: «Предатель и мятежник, что ты сделал со своим королем?»
— Гиз! — побагровел Генрих. — Ты его найдешь в моем дворце, на моем троне, быть может.
— Я отправился в путь, чтобы крикнуть в лицо Екатерине Медичи: «Подлая мать! Бессердечная мать! Что ты сделала со своим сыном?»
— Королева-мать! — простонал Генрих. — Ты найдешь ее в тюрьме Гиза.
— Я отправился в путь, чтобы найти Генриха Валуа, короля Франции, и крикнуть ему в лицо то, что должны были когда-то крикнуть дети Авеля своему дяде… «Каин! Что ты сделал со своим братом?..»