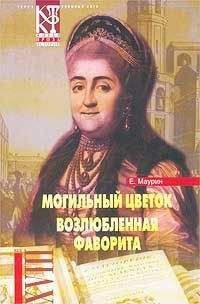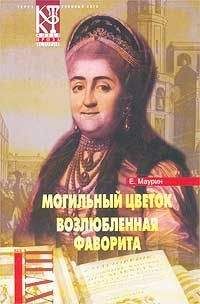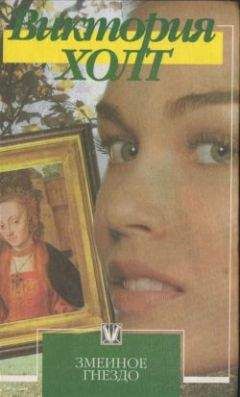Глава 3
Адель заснула никому неведомой девчонкой-замарашкой, а проснулась знаменитой талантливой актрисой. А в те времена — да думается мне, что и долго так будет, — слово «актриса» в переводе на общепонятный язык значило «общественное достояние». Еще актерам иной раз удавалось занять независимое, уважаемое положение в обществе: например, знаменитый балетмейстер Вестрис был принят как равный в лучших аристократических домах. Но актриса всегда оставалась «рабыней веселья», существом низшего порядка. Правда, и актриса могла играть большую роль и оказывать влияние на ход государственных дел, но это влияние исходило не от внутренних ее достоинств, а от чисто внешних: повелевала не актриса, а красивая женщина. А ведь на самом-то деле мир столь многим обязан деятелям сцены, что актеры и актрисы должны бы быть окружены всеобщим почтением: разве не со сцены общество воспринимало и воспринимает те идеи, которые более всего способствуют его облагораживанию, двигают вперед к идеалам добра? Но, видно, что-то роковое заложено в самой природе сценических деятелей, если даже революция, вызвавшая полную переоценку прежних взглядов и взаимоотношений, не коснулась подмостков, не внесла ничего нового в отношение общества к актерам.
Да, теперь Адель стала общественным достоянием, и это сказалось уже на следующее утро после ее дебюта.
Мы, то есть Роза, Адель и я (я стал в последнее время частенько манкировать службой), сидели в будуаре новоявленной знаменитости и занимались подсчетом вырученных (вернее — подаренных) вчера денег, которые надлежало занести в графу прихода. Это была первая приходная статья, до сих пор фигурировали одни только статьи расхода.
В середине этого приятного занятия в будуар вошла Мари и доложила, что его светлость, герцог де Ливри, желает видеть барышню.
— Попроси подождать, — ответила Адель, — я не одета… Впрочем, постой, скажи, что я сейчас: очень надо стесняться с этой старой развалиной!
Накинув на полуобнаженные плечи шаль, Адель вышла из будуара в гостиную. Она неплотно притворила дверь, и с моего места можно было видеть все, что делалось там. Старуха Роза воспользовалась свободной минуткой и ушла хлопотать по хозяйству. Таким образом я мог на свободе заняться наблюдениями.
Герцог явился с огромным букетом цветов: эта любезность ему ничего не стоила, так как у него были собственные цветники и оранжереи. При появлении Адели он хотел было что-то сказать, но вид девушки в откровенном утреннем «неглиже» произвел на старого сластолюбца такое потрясающее впечатление, что де Ливри только открывал и закрывал рот, не будучи в силах сказать что-либо связное и разумное.
— Ах, как вы милы, герцог! — весело сказала Адель, принимая из рук растаявшего старца цветы. — Простите, что я выхожу к вам в таком растрепанном виде, но мне не хотелось заставлять вас ждать; да и мне кажется, что с вами-то я могу не стесняться!
— О, помилуйте! О каких стеснениях может быть речь! — обрел наконец де Ливри дар слова. — Наоборот, совсем наоборот! Ваша милая беззастенчивость дает мне повод прямо приступить к цели своего визита. Но позвольте мне присесть, дорогое дитя мое, и сядьте сами!
Они уселись.
Де Ливри подумал минутку, как бы собираясь с мыслями, и затем продолжал:
— Я отлично понимаю, что как мужчина я представляю очень мало интереса…
— О, ровно никакого! — беззаботно согласилась Адель.
— Вы откровенны, как ангел! — с довольно-таки кислой улыбкой заметил герцог и продолжал: — Конечно, опытная, зрелая женщина поняла бы, что это отнюдь не может быть препятствием для чего бы то ни было, потому что я — светский человек, располагающий весьма и весьма крупными связями, а это право же…
— К делу, герцог! — холодно оборвала его Адель, — все эти рассуждения я уже давно знаю!
Ливри сразу поперхнулся, замялся и, видимо, не знал, как подхватить прерванную нить: Адель своим пренебрежительным хладнокровием выбила его из колеи.
— Хорошо, — сказал он наконец, — я прямо перейду к цели своего визита. Видите ли, я уже не в тех годах, когда женщина является для мужчины предметом страстных грез, как бы она хороша ни была. Разумеется, из суетного тщеславия…
— Еще раз: к делу, герцог! — прежним тоном заметила Адель.
— Но позвольте, обожаемая, — с отчаянием крикнул Ливри, — не могу же я так просто приступить к тонкой цели своего визита. Прежде всего я хотел бы знать, не слушает ли нас кто-нибудь…
— Ровно никто! К делу, герцог, к делу! — нетерпеливо повторяла Адель.
— Да, но то, что я собираюсь сказать вам, настолько тонко и важно, что мне хотелось бы иметь известную уверенность, что…
— Вот что, герцог, — решительно заявила Адель, — я еще раз говорю вам, что нас никто не слушает. Если же вам мало моего слова, то можете изъяснять цель своего визита вот этим самым креслам, а я уйду, чтобы привести себя в приличный вид. Ведь ко мне может прийти кто-нибудь поинтереснее вас, кого я не решусь принять в таком виде. Итак, начнете вы или нет? Нет? До свиданья!
— Боже мой, что за характер, что за ужасный характер! — простонал Ливри. — Да сядьте же, обожаемая, сядьте и выслушайте спокойно! Постараюсь быть кратким, насколько возможно. Хотите занять самое высшее положение, какое только снилось французской женщине?
— Хочу, — лаконически ответила Адель.
— А вы отдаете себе отчет, какое положение может быть высшим для женщины?
— Мне кажется… — начала было Адель, но вдруг по ее лицу мелькнуло что-то вроде испуга; только теперь она поняла, куда клонит герцог.
Она встала, тщательно закрыла двери со всех сторон, и ее дальнейший разговор с Ливри происходил уже с соблюдением полнейшей тайны. Впрочем, для меня-то сущность их разговора не была тайной: будучи в курсе политических конъюнктур версальского двора и зная роль и характер Ливри, я с первых его слов понял, какую низость подразумевает он под «высшим» положением.
Вам может показаться странным, что я, маленький нотариальный клерк, с апломбом говорю о знании «политических конъюнктур» внутренней жизни двора. Но не забудьте, что все описываемое мною происходило на пороге великой революции, когда в народе чувствовалось особенно напряженное любопытство ко всем внутренним событиям двора. Трудно сказать, как удовлетворялось это любопытство: вернее всего, тут происходило то же самое, что бывает в отношениях знатных господ к прислуге. Ведь господа не стесняются показываться прислуге в самом откровенном беспорядке костюма. Разве прислуга — человек? Так чего же перед нею стесняться! Вот народ и был такой же прислугой для придворных верхов того времени. И многое, что могли не знать высшие чины двора, с злорадством комментировалось в самых низкопробных кабачках Парижа.