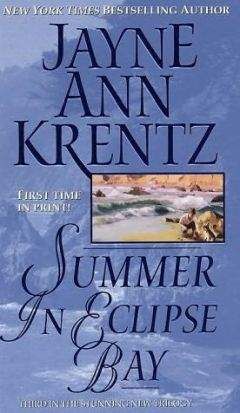— Ну, товарищи, айда, — сказал председатель трибунала и тронулся по улице.
За ним нестройной гурьбой поплелись трибунальщики.
Они приближались уже к последним избам села. От них широкая аллея входила прямо в лесок. И вдруг из леска, как выбегают на межу за колосьями зайцы, высыпалось полсотни всадников в стальных немецких шлемах.
Это были кавалеристы полковника Бермонта-Авалова, полковника, продававшего свою шпагу, честь и подданство и за немецкие марки, и за русские рубли, и за английские фунты.
Кавалеристы скакали вразброд. Обнаженные шашки бледно серебрились в заснеженном воздухе.
Председатель трибунала остановился и нервно вырвал револьвер из кобуры.
— Рассыпайся! Беги кто куда, задворками, по огородам. Кто уйдет, пробирайся поодиночке на Антропшино.
Кучка людей растаяла и рассыпалась.
Председатель стал за ствол столетней липы и, упирая револьвер в корявый нарост коры, неторопливо подцепил на мушку скакавшего впереди кавалериста. Он успел выстрелить пять раз, пока налетевшая лошадь не придавила его боком к дереву, и опустившаяся шашка, раздвоив шлем, оставила на лбу председателя трибунала глубокую щель.
По огородам, прыгая и перелезая через заборы, бежали трибунальцы, отстреливаясь. За ними гонялись всадники.
Красноармеец в ласковых оспенных рябинках и сухонький старичок в налезающем на уши шлеме подбегали уже к опушке леса. Сзади, тяжело хрипя и отбивая чечетку подковами, настигала шестивершко-вая пегая лошадь. Красноармеец остановился и вскинул винтовку. Плеснул грохочущий желтый язычок, и всадник кулем ссунулся на землю. Лошадь набежала на красноармейца и остановилась. Он схватил ее за повод и обернулся к старику.
— Товарищ следователь, лезайте, а я позади вас. На коне способней.
Он посадил старика и вскарабкался сам. Лошадиный круп мелькнул между лесной порослью и скрылся.
Всадники, окончив гонку за трибунальцами, скакали уже в тыл цепям.
И когда они выскакали в поле, к трупу председателя, раскинутому под липой, медленно, поодиночке, как волки к падали, стали собираться разогнанные мужики-финны. Они постояли несколько секунд молча и вдруг, словно сговорясь, стали топтать труп добротными, подбитыми кожей валенками.
— Не иначе как заплутались. Ишь какая мгла! Ни черта не видать. Придется до утра перемаяться под кустиками.
Евгений Павлович из-под руки вгляделся поверх лохматого кустарника, прикрывающего опушку. За кустарником, шагах в двадцати, блеклая полоса снега чернела и обрывалась в непроглядную пустоту, от которой веяло холодом и одиночеством. В этой вороненой пропасти по временам искрилась какая-то блест-кая точка.
— Как будто огонек вон там, Рыбкин, — сказал Евгений Павлович голосом, потеплевшим от надежды.
Красноармеец вгрызся взглядом в тьму и покачал головой.
— Не. Мережится это. С устатку да голоду. А коли б и на самом деле- все едино, товарищ Адамов, не след до утра соваться. Напоремся на белугу. Н-но!… Балуй, черт офицерский! — крикнул он на пегую лошадь, дернувшую повод.
— Что же делать? — спросил уныло Евгений Павлович.
— Да одно осталось — податься в чащу. Коняку положим, сами к ней к пузу примостимся, чтоб не простыть, — так и заночуем.
Евгений Павлович пошел следом за Рыбкиным и лошадью, трудно поднимая с земли коченеющие ноги.
Рыбкин выбрал место, где кусты сошлись в кружок, протащил лошадь внутрь, ломая ветки, и, похлопав ее по коленям, заставил лечь. Уложив лошадь, окликнул:
— Идите, товарищ Адамов, лягайте под самое брюхо, приваливайтесь, а ноги кладите ей на шулятики. Буде тепло, что на печке.
— А ты? — спросил генерал.
— А я тоже сбочку привалюсь. Нам привычно.
Евгений Павлович улегся. От лошадиного мерно вздымающегося живота сквозь шинель дошло мягкое, разнеживающее тепло.
Над головой сухо звенели промерзшие веточки. Облака в небе бежали, торопясь и разрываясь; промежду них выскакивали и гасли мерцающие лиловатые звезды.
Рыбкин зашевелился и приподнял голову.
— Ясняет, — сказал он тихо, — звездочки видать. — И, помолчав, добавил: — Вот берет меня интерес узнать, чи есть бог, чи на самом деле один воздух? Вы вот, товарищ Адамов, науки знаете — объясните.
— Ты же большевик? — ответил генерал с ласковым удивлением.
Рыбкин засмеялся.
— А как же. Билет имею по форме.
— Значит, ты не можешь верить в бога.
— Оно конечно, — ответил красноармеец. — А только все одно: смутно нам как-то без бога. Хрестьяне мы. Неужто так нельзя, чтоб божецкую правду и большевицкую правду вместе собрать?…
Дремота ослепляла веки Евгения Павловича. С шепотом Рыбкина сливался промерзший звон веточек. Сквозь дремоту ответил:
— Правда всегда одна, Рыбкин. Всегда одна. Только нужно каждому уметь познать правду. Об этом трудно рассказать. И совместить можно. Нужно только верить, что правда, за которую стоишь, — настоящая и единственная.
Рыбкин зашевелился, прикрывая рваными полами шинели ноги, и похлопал с мужицкой лаской по брюху завозившуюся лошадь.
Она стихла. Рыбкин сказал:
— И, по-моему, очень даже можно. Мы, конечно, мало чему учены. За медную полушку писарь по складам читать обучил. А вот, коли почитать, скажем, Евангелие и, допустим, партейную программу, то видать — что по писанию, что по программе — одинаковая правда. И Христос для бедных трудящихся старался, и большевики об том же страдают. А что церква за богатых заступой стала, так в том попы повинны. Попы тоже человеки, греху подвержены.
— Да, — односложно ответил Евгений Павлович.
— Видать, сон вас долит, товарищ Адамов. Спите. Авось завтра выберемся. А не выберемся, так вам с полбеды, зато мне беда…
— А почему мне полбеды? — оживился Евгений Павлович, приоткрывая глаза.
— В рассуждении кадетов. Вас-то простят, как вы генеральского чина; а Рыбкина, мужика, — пожалуйте под машинку.
— Глупости говоришь, Рыбкин. Одинаково скверно будет и тебе и мне. Ну, давай спать!…
— Спокойной ночи, товарищ Адамов, — вздохнул красноармеец.
Евгений Павлович прижался плотнее к лошадиному брюху. Сквозь пленку дремы подумалось о словах Рыбкина, и генерал представил себе встречу с белыми. И неожиданно почувствовал испуг и томительное отвращение. Чтобы отделаться от этой мысли, надвинул шлем на глаза и уткнулся носом в лошадиную шерсть.
— Вставайте, товарищ Адамов. Идтить пора. Светает.
Сквозь сон генерал почувствовал осторожные подергивания за плечо и раскрыл глаза. Оспенные рябинки со щек Рыбкина ласково усмехались ему.