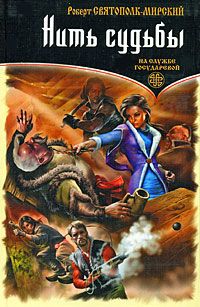И, грозно щелкнув нагайкой, Картымазов быстро отвернулся, чтобы никто не заметил его подобревших глаз.
Потом сказал жене и сыну:
— Живите дальше, как жили, потому что я сюда лишь на неделю — меня сам великий князь ждет с поручением!
И, отказавшись от услуг конюха, пошел самолично расседлывать коня.
…Медведев на людях трижды поцеловал Анницу в щечки, но зато позже, когда Картымазов уехал, Филипп со своим обозом направился следом за ним к броду, Сафат деликатно отпросился погостить день-другой у Леваша, купец Манин и его люди были расселены, и супруги наконец остались лишь со своими людьми. Василий подозвал Клима Неверова и негромко сказал ему:
— Все новости расскажут вам Алеша да Ивашко. Ты готовься к свадьбе сына, да не забывай поглядывать вокруг! Однако что бы ни случилось — справляйтесь сами — нас тут нет!
Он обнял Анницу за плечо. Нежно друг другу улыбаясь и о чем-то перешептываясь, они вошли в дом и вышли оттуда ровно через трое суток.
…Труднее всех пришлось Филиппу.
Настенька, прожившая всю жизнь тихо и скромно в семье небольшого достатка, никак не могла привыкнуть ко всему тому, что так неожиданно обрушилось на ее голову…
Ей очень трудно было понять, как на войне за такое короткое время можно настолько разбогатеть…
Разумеется, Филипп ни словом не обмолвился о мешках, наполненных перстнями, кольцами и окровавленными медальонами, которые ему после каждой битвы приносил десятник Олешка Бирюков, — он лишь сказал, что по милости великого князя ему платили в войске очень высокое жалованье за его доблестные подвиги.
На самом деле по пути домой он, по совету того же Бирюкова, заехал в Новгород, где при помощи купца Манина очень выгодно продал всю свою воинскую добычу или, точнее, выменял ее на чистые, ничем не запятнанные новгородские рубли и гривны, которых оказалось так много, что у Филиппа возникла мысль о серьезном укреплении и перестройке всего имения Бартеневка, в чем его горячо поддержал новый полудруг-полуслуга лив Генрих, пообещав взять на себя все заботы как о самом строительстве, так и о дальнейшем ведении нового двора.
Попутно выяснилось, что раненый Ивашко уже поправился, но Любаша, единственная и горячо любимая дочь вдовца Манина, настолько хорошо заботилась о юноше, что ему это очень понравилось и он захотел, чтобы она продолжала заботиться не только о нем, но и об их будущих детях всю дальнейшую жизнь. Любаша охотно согласилась, отец непременно хотел познакомиться с условиями, в которых будет жить его дочь, и вот они все двинулись на Угру, заехав по дороге в Москву, куда Филипп был пригашен прибыть шестого июля на прием к великому князю, где, к своей огромной радости, встретил Медведева, Картымазова и Сафата.
Наконец Настенька хоть и с трудом, но все же поверила в огромное жалованье, которое платил ее мужу великий московский князь, однако ее пугало огромное количество новых, незнакомых людей, которые, не успев приехать, начали повсюду расхаживать, что-то измерять, деловито советуясь о том, какие старые дома надо снести и какие новые построить.
Ее смущало, что Филипп купил огромное количество строительного материала, в том числе очень дорогих больших железных гвоздей, скоб и не менее дорогого камня, так, будто тут должна быть построена целая крепость, заплатив нанятым в Медыни и Боровске строителям все деньги вперед и почти ничего не оставив наличными на непредвиденные расходы.
Филипп только смеялся в ответ и обещал через пару месяцев привезти вдвое больше из поездки, в которую он сейчас отправится, но о которой не может ей ничего рассказать, потому что это тайное государево дело.
В оправдание своего решения укрепить имение он приводил донесения о том, что хан Ахмат движется в эти края и что, хотя, по всем сведениям, он придет с войском гораздо восточнее — на Оку, но не исключено, что некоторые отряды доберутся и сюда, вот почему московское имение, находящееся по литовскую сторону Угры, будет подвергаться большой опасности.
Настенька резонно возражала, что она и так не намерена оставаться тут с двумя грудными младенцами, а будет жить на той стороне, в более укрепленной Медведевке, и спрашивала, не лучше ли было истратить эти деньги на еще большее укрепление имения Василия и Анницы, где в случае опасности могли бы укрыться все три родственные семьи вместе со всеми своими людьми.
— Я, конечно, очень люблю Василия, — отвечал ей на это Филипп, — он мне друг и все такое, но, Настенька, не забывай — ни он, ни его дом не смогли уберечь тебя от похищения татарами! Я не хочу, чтобы это повторилось! Я выстрою здесь такую крепость, какая Василию даже не снилась! И ты будешь в ней в полной безопасности!
— Даже не думай об этом! Я не останусь здесь одна без тебя!
— С тобой будет Генрих!
— К черту Генриха! Он мне чужой — я его не знаю! Я люблю тебя и хочу быть с тобой!
— Не выводи меня из себя, Настя! — повысил голос Филипп. — Я — воин и мужчина! Я должен выполнять свой долг перед государем! Это превыше всего! Меня нарочно из Ливонии вызвали, потому что там теперь князь Оболенский уже и без меня может справиться! А я понадобился самому государю! Ты это понимаешь? Он лично дал мне важнейшее задание державной важности! Вот! А твое женское дело — сидеть дома, ждать меня и рожать побольше детей, ясно?!
Настенька вдруг заметила, что Филипп сильно переменился за то время, пока они были в разлуке, — что-то новое, незнакомое и чужое появилось в нем.
Она горько заплакала, и тогда Филиппу стало стыдно.
Он приласкал и утешил ее, стал обнимать и целовать, а за окном вдруг запел необыкновенно приятным голосом красивую, не слыханную никогда в этих краях песню лив Генрих Второй, и Настенька постепенно успокоилась и, вздохнув в душе тяжко, сказала себе, что, наверно, такова уж ее судьба и надо научиться терпеливо нести этот крест.
Единственное, что ее радовало, — это невероятная любовь Филиппа к деткам. Казалось, он не мог расстаться с ними ни на минуту, и Настенька даже испытала странный укол ревности — с ней он столько времени не проводил.
Она попыталась утешить себя тем, что, если с ней что-нибудь случится, с таким хорошим и заботливым отцом дети не пропадут.
Но эта мысль ее почему-то не утешала…
…Купец Манин не имел ничего против жениха своей Любаши, даже несмотря на то, что Ивашко был не то что беден, а просто нищ. Ивашко служил Медведеву, человеку, которому сам великий князь лично дает поручения, и это много значило, потому что Медведева он запомнил еще с позапрошлого года, когда тот повадился несколько раз провожать совсем еще юную Любашу, после того как заступился за нее у замерзшего колодца. Тогда Манин очень скептически смотрел на это дело и просто-напросто запер дочь в доме и не выпускал ее на улицу, пока этот московский забияка не перестал ходить под их дом. Он справедливо посчитал, что Медведев ей не пара, сразу заподозрив в нем птицу куда более высокого полета, и был, конечно, как всегда, прав, а вот теперь все получилось очень даже хорошо.