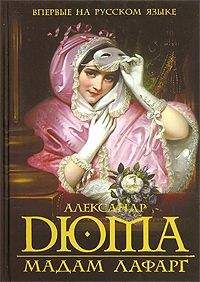Впервые с тех пор, как замужние дочери улетели вдаль от родительского гнезда, г-н Коллар вновь видел их всех вместе, он видел дочерей и внучек, но напрасно искал среди склоненных головок стриженую голову мальчугана. Мадам де Мартенс привезла двух своих дочерей – Берту и Антонину. У мадам Гара была одна дочь, кажется, Габриэль. С Марией Каппель и Антониной Каппель мы уже знакомы.
В Вилье-Элоне в тот год жили блестящей светской жизнью, эхо ее докатывалось даже до Вилье-Котре. Дело в том, что в Вилье-Котре охотники держали свои своры, в тот год среди охотников видели племянника герцога де Талейрана, герцога де Валенсе, господ де Легль, де Воблан, а также братьев де Монбретон – их Мария Каппель уже описала. Среди празднеств и увеселений мадам де Коэхорн родила третью дочь[70]. Природа возместила потерю крошки Жанны.
Первый снег заставил улететь в Париж изящных ласточек. Улетая, они взяли обещание с мадам де Коэхорн непременно их навестить. Она пообещала, и, к величайшему удовлетворению Марии Каппель, сдержала свое обещание. Мария давно мечтала о Париже. Юным созданиям Париж видится гигантским ларцом, таящим в себе все сокровища, какими им хотелось бы обладать. В волшебном городе каждый мог обрести все, чего жаждал – любовь, богатство, славу.
Желания Марии пока еще смутны и неотчетливы. Больше всего ей пока хочется стать наконец взрослой. Она пишет, что однажды Эдмонд де Коэхорн, брат ее отчима, поцеловал ей руку, и она так обрадовалась тому, что ее не считают больше маленькой девочкой, что громко закричала: «Спасибо! Спасибо!»[71].
Марию возили в театр. Наступила великая эпоха романтизма, на сцене шли драмы, исполненные страстей, возможно, даже чрезмерных: «Лукреция Борджа», «Антони», «Марион Делорм», «Честер-тон»[72]. Познакомившись с ними, Мария начала лучше понимать, что за чувства ее тревожат, какие желания болезненно томят сердце. Слушала она «Дон Жуана» и «Роберта-Дьявола» в исполнении Нурри, м-м Даморо, м-м Дорюс[73]. «Пение казалось мне небесным, правда, небо было не христианским, а скорее магометанским – там избранники пророка услаждают себя шербетом, наслаждаются гармонией И воспламеняются черными глазами божественных гурий»[74].
Надо заметить, что Мария прекрасно описала себя, состояние юной души, и если бы мемуары появились прежде судебного процесса, а не после него, то не сомневаюсь: образованное общество отнеслось бы к ней с величайшим состраданием, но не потому, что поручилось бы целиком и полностью за непричастность Марии к отравлению мужа и краже бриллиантов, а потому, что могло бы понять то странное и таинственное влияние, какое оказывает физическое нездоровье женщины на ее душу, о чем так обстоятельно пишет Мишле в своей книге «Женщина»[75], обосновывая состояния, в которых женщина перестает владеть собой и не слышит доводов рассудка. Так вот что пишет сама Мария Каппель:
«Я повзрослела (в то время ей было шестнадцать, от силы семнадцать лет), но меня все еще считали ребенком и поощряли безудержное веселье и те неожиданные выходки, какие свидетельствовали о кипящем во мне преизбытке жизни . На лошади я искала, создавала, преодолевала тысячи опасностей. Во время наших прогулок не могла устоять перед соблазном перескочить через изгородь, перепрыгнуть через ручей из одного только возмущения перед возникшей преградой, вставшим на моем пути препятствием. Но если мне прощали полную свободу движений и перемещений в пространстве, то никакая самостоятельность в суждениях мне не позволялась. Мое самолюбие постоянно ранили, подавляя и принижая мою мысль. Однако все старания принудить меня не думать были тщетны. И если я согласилась на то, чтобы меня считали дурнушкой, то с предположением, что я дурочка, согласиться никак не могла. Раз от меня требовали молчания, я молчала – но, не высказываясь вслух, я писала, читала книги и приучила себя поэтизировать мельчайшие детали жизни. Со скрупулезным тщанием я оберегала себя от всего вульгарного и пошлого, хотя грешила тем, что стремилась только к прекрасному, мечтая, чтобы действительность стала более привлекательной, поощряла в себе любовь к красоте, а не любовь к добру, охотнее жертвовала собой, чем исполняла свои обязанности, отдавала предпочтение невозможному перед возможным»[76].
Но Марию ожидало новое испытание, похоже, злонамеренная судьба задумала лишить ее всех данных от природы защитников. Мало того, что сама она заболела корью, начавшейся с самых пугающих симптомов, – слегла и ее мать. На протяжении трех недель Мария была на волосок от смерти. Очнувшись, она услышала неосторожно оброненное слово – врач говорил с ее сиделкой – и поняла, что мать ее очень серьезно больна.
Но предоставим слово Марии, она одна может правдиво передать охватившую ее тревогу.
«Я хотела вскочить, побежать к маме, потребовать, чтобы я ухаживала за ней, как-никак я имела на это право! Но поняла: это невозможно, корь – заразная болезнь; я готова была отдать свою жизнь, но мое присутствие прибавило бы еще одну опасность к той опасности, какая ей грозила. Какие дни – Господи Боже мой! Сколько тревог! Какие опасения! Я вслушивалась с одинаковой тревогой и в любой шум, и в наставшую тишину. Целый день и полночи я сидела у двери, жестоко закрывавшей ее от меня. Г-н Коэхорн и Антонина пытались обмануть меня, твердя слова надежды, но тщетно, голоса их звенели слезами, а меня душили слезы от предчувствий. Я знала правду, состояние мое было ужасно, я чувствовала себя на грани безумия.
Наконец меня отвели к маме.
Бедная моя мамочка! Бледность ее внушала ужас, губы посинели, голова не могла оторваться от подушки. Она уже не страдала, но не чувствовала и наших жгучих поцелуев, которыми мы осыпали ее руки. Пристальный взгляд ее не отрывался от г-на Коэхорна, ловя, казалось, каждую его слезинку, собирая сокровища для вечности. На миг она обратила свое лицо к нам, подозвала Антонину, несколько минут прижимала ее к сердцу, потом, медленно перебирая пальцами пряди моих волос, отстранила их от моего лица и, вглядевшись ангельским взглядом в мои скорбные глаза, прошептала: «Бедное мое дитятко, я тебя так любила…» Я целовала ее с бережной нежностью, но сердце мое исходило судорожными рыданиями. Меня были вынуждены оторвать от возлюбленной моей мамочки, но я не ушла из спальни и спряталась за шторами… Голова мамы склонилась к голове Эжена, она говорила с ним глазами и всей душой; казалось, его отчаяние придает ей сил; наша боль делала и ей больно, его боль уменьшала ее страдания…