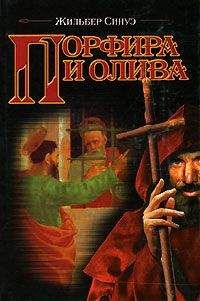— Скажи лучше, о чем ты хотел побеседовать.
— По правде говоря, я всего лишь посредник, — признался Карвилий, наливая себе чашу мульсума. — Это Флавия просила меня поговорить с тобой.
— Флавия? Чего ей надо? По-моему, все уже сказано.
— Прежде всего знай, что она глубоко сожалеет о вашей ссоре и просит извинить ее, если причинила тебе боль.
— И дальше что?
— Ну, она хотела, чтобы я выступил в защиту ее дела.
— Ох уж это ее дело... Но неужели оно и твое тоже? На что это нужно? Пусть девчонка позволяет усыпить ее разум нелепыми сказками, это еще куда ни шло, но ты-то? Ты, Карвилий?
Несмотря на его отказ, повар и ему нацедил чашу медового вина.
— Малыш, ты что-то, по-моему, слишком издерган. Выпей-ка. Может быть, это усмирит твое раздражение. Что до «девчонки», позволь тебя уверить, что она повзрослее кое-кого из нас. Да не о том речь. Если я правильно тебя понял, сам ты не желаешь отступать от учения Орфея, однако требуешь, чтобы мы с Флавией отреклись от своей веры?
— Если кто-нибудь пронюхает, что вы христиане, это обернется для вас обоих смертью в страшных мучениях. А к моей религии Рим относится терпимо.
— То, что Аполлоний христианин, общеизвестный факт, так что...
Калликст не дал ему договорить.
— Не рассчитывай на безопасность, которую вам обеспечивает наш хозяин. Она хрупка, словно хрустальный стерженек: Аполлоний не вечен. Да и сенаторам[18] уже не раз случалось лишаться жизни за нарушение Нероновых установлений.
— Но если бы нашему господину выпала подобная участь, было бы некое величие в том, чтобы умереть рядом с ним, разве ты этого не находишь? — усмехнулся Карвилий.
— Вот уж нет, ничего великого я здесь не вижу. Я согласился жить ради него, но считаю, что уже и этого многовато.
— Опять этот твой мятежный дух... Ты прав. Речь не о том, чтобы умереть ему в угоду, к тому же он бы и сам такого не одобрил. Но что касается Флавии и меня, мы разделяем его веру и ей не изменим, даже если такая верность в один злосчастный день приведет нас на арену.
— Чистое безумие!
— А не может быть так, что безумие говорит именно твоими устами? Откуда у тебя такая уверенность в своей правоте?
— Да просто потому, что глупо рисковать жизнью ради отвлеченных умствований.
Карвилий медленно выпрямился на своем табурете:
— Послушай меня хорошенько, малыш. Я старый человек. Мне скоро шестьдесят. Я провел свою жизнь в почитании Марса, Юпитера, Венеры и прочих. Боги немы, черствы и самовлюбленны, они с головы до пят словно бы созданы ради оправдания людских безрассудств. Марс на своей колеснице всегда был в моих глазах всего лишь олицетворением ужаса и пленения. Я не видел, что можно посвятить Плутону, кроме сумрака у алтарных подножий. Юпитер, которого некоторым угодно признавать абсолютным властителем всего сущего, являет собой прискорбное зрелище, не более чем хамелеон, переживающий в угоду своим страстям любые превращения: то сатиром обернется, то золотым дождем, чтобы в Данаю протечь, одним словом — бык. Ну же, Калликст, если всерьез подумать — как почитать бога-быка? И вот некто, человек, подобный мне и тебе, из плоти и крови, заговорил о любви, о братстве.
Он не затевал войн с Сатурном или Титанами, он восстал против несправедливости. Его воспитали не корибанты[19], а женщина — Мария. Такая же женщина, как прочие. В противоположность сыну Сатурна он не воздвигал стен Трои, но сеял семена всечеловеческой веры, стократ более благородной и великой. Ну так позволь же нам верить в этого человека. Эта вера помогает нам переносить наше положение. Всю жизнь я принадлежал жирным патрициям, пресыщенным и премерзким. Весь свой век влачил рабское ярмо. Так что, Калликст, когда я наконец услышал слова «любовь», «свобода», «справедливость», не требуй, чтобы я заткнул уши.
Поневоле взволнованный, Калликст не знал, что ответить. В речи старика было столько горячей искренности, что фракиец почувствовал себя обезоруженным. Он устало покачал головой и пошел прочь. Плечи его слегка сутулились, будто он нес что-то очень тяжелое.
Расположенный между Велией, Целиевым холмом и Эсквилином, возле гигантской статуи бога Солнца, в засыпанной котловине озера Золотого Дома, амфитеатр Флавия вздымал свои овальные стены на высоту четырех этажей. Это было грандиозное сооружение — круг, венчаемый ротондой, около тридцати туазов высотой, — сложенное из блоков, вытесанных из слоя плотных осадочных пород, специально для этой цели извлеченных из карьеров Альбулы. Издали это сооружение напоминало жерло гигантского вулкана, разверстое, чтобы поглотить небеса.
В тот первый день после августовских нон там царила лихорадочная суета, приводящая на память времена великих триумфов Калигулы, Домициана и Траяна. Рыканье львов, вой пантер, ворчание тигров и перекрывающий все это циклопический, апокалиптический рев толпы квиритов[20].
На желтом песке корчился от боли леопард, конвульсивными движениями мощных когтистых лап пытаясь вырвать из своего тела стрелу, пронзившую его насквозь. Большие пятна крови темнели на поверхности арены, где уже валялось несколько десятков хищников с коченеющими лапами, со шкурой, еще подрагивающей в последних спазмах агонии. Другие звери, растерянные, обезумевшие, метались туда-сюда, то забиваясь в тень под тентом, то снова выскакивая на озаренную жестким беспощадным светом середину арены.
Львы прыгали, пытаясь перескочить высокие стены, кольцом обступающие их, чтобы тотчас сорваться обратно с полным отчаяния рыком. Пантеры норовили протиснуться сквозь решетки калиток, через которые их выгнали сюда, но снова и снова терпя неудачу, разъярялись тем сильнее. Большинство же, очумев, сгрудилось в центре открытого пространства, продолжая метаться. И так вплоть до мгновения, когда зверь, сраженный стрелой, вдруг резко останавливался и грузно оседал на песок.
Шум накатывал волнами. Крики «Цезарь! Цезарь!» рвали в клочья небо над амфитеатром.
Всякий раз, когда еще один хищник скатывался на песок, взгляды всех обращались к Коммоду — юный властелин, хозяин и вдохновитель этих неистовств, словно бы околдовал равно мужчин и женщин.
Император был наподобие Геркулеса облачен в львиную шкуру, которая оставляла открытыми его грудь и правую руку. Звериная челюсть, заменяя шлем, покрывала его голову, а львиная грива, обрамляя лицо, спадала на плечи, придавая его чертам что-то варварское.
Он приладил стрелу к тетиве своего лука и натянул ее. Острие следовало за беспорядочными прыжками льва. Коммод, затаив дыхание, напряг пальцы. С тайным сладострастием ощутил дрожь тетивы, упиваясь следующим затем легким посвистом рассекаемого воздуха. Приветственные вопли разразились с удвоенной силой. Стрела мощным ударом пронзила зверя, в желтую шкуру впечатался кровавый след — а ее оперение еще трепетало...