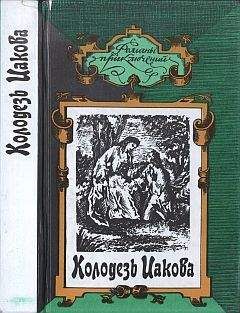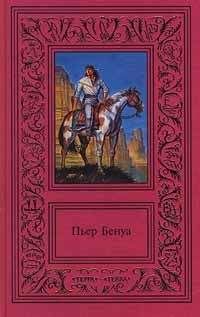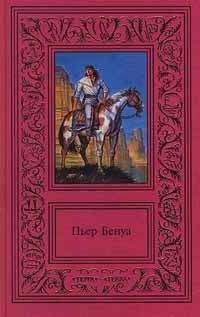Она споткнулась и чуть не упала. Он удержал ее, робко сжав ее руку.
Кончились сводчатые улицы, и показалось затянутое местами белыми облаками небо. Кое-где мерцали звезды.
Кохбас остановился.
– Мы пришли, – сказал он.
Она замедлила шаг перед преграждавшим дорогу мраком. Он взял ее за руку и тихо провел к огромной невидимой стене.
Оба сделали одно и то же движение, протянули руку и прислонились к темному камню. Над их головами взад и вперед летала летучая мышь.
Так они оставались пять минут, десять… О чем они думали в пустынном месте, куда в этот же миг тянулись руки тридцати миллионов рассеянных по миру братьев?
Агарь головой уперлась в стену. Может быть, она плакала. Но плакала она над собой или над разоренным Сионом, над его отданными в рабство священниками и разогнанными королями?
Изнемогавший от печали Исаак Кохбас собрался с духом и положил руку на плечо молодой женщины. Она задрожала.
– Вернемся, – прошептала она, – мне холодно. – И так быстро пошла по темным, полным жутких теней улочкам, что он еле поспевал за ней.
Когда впереди замигали первые огни европейской улицы, он услышал, как из груди ее вырвался вздох облегчения. Она замедлила шаги и даже улыбнулась, воскликнув:
– А вот и отель! Песня лучше. Я больше не могла. Этот холл! Этот бар! Эти электрические люстры! В какой-нибудь сотне метров от Стены Плача!
В гостинице вместе с ключом от комнаты Кохбасу подали телеграмму.
– Она пришла как раз в то время, когда вы вышли.
Кохбас так долго читал телеграмму, что Агарь посмотрела на него. Он был бел, как полотно.
– Что случилось?
Он молча протянул ей бумагу, и она, в свою очередь, прочла:
«Прошу вернуться немедленно. Дело очень серьезно. Генриетта Вейль».
– Нужно сейчас же ехать, – сказала Агарь, вернув Кохбасу скомканный листок.
Он точно обезумел.
– Что такое? Что такое могло случиться? Пожар, может быть… или бедуины.
Пока Агарь о чем-то переговаривалась с управляющим, Кохбас опустился в кресло, все еще перечитывая телеграмму: слова, буквы, цифры плясали перед его глазами.
– Я звонила во все гаражи, – повернулась к нему Агарь. – Машину можно получить не раньше завтрашнего утра. Ни один шофер не соглашается ехать ночью, должно быть, дорога отсюда до Наплузы не совсем безопасна.
Увидев его полные отчаяния глаза, она, как можно мягче, добавила:
– Самое лучшее, как можно раньше пойти отдохнуть. Завтра нам, без сомнения, понадобятся все наши силы.
На следующее утро в условленный час у дверей гостиницы стоял заказанный ими автомобиль. Успокоенный Агарью Исаак Кохбас был совсем другим, чем накануне. Он, как и все нервные люди, легко поддавался влиянию, и все в это раннее утро представлялось ему в розовом свете.
Конечно, Агарь права. Было безумием так волноваться, не приняв во внимание легко возбуждающуюся натуру Генриетты Вейль. Он только что звонил в Наплузу. Ему ответили, что в городе и окрестностях ничего особенного не случилось за последние дни.
Если бы в «Колодезе Иакова» произошел пожар или скверная история с бедуинами, или еще что-нибудь, ему бы тут же сообщили… Принимая во внимание все эти доводы, он даже решил отложить отъезд. Агарь приехала полюбоваться Иерусалимом. Было бы слишком глупо, если бы у нее осталось воспоминание только о непримечательном отеле и печальной, леденящей душу ночной прогулке.
– Один час, один только час!
И он приказал шоферу ехать по направлению к горам Олив.
Сначала автомобиль катился по очень широкой дороге, которая могла бы сойти за шоссе, если бы так часто не пересекалась незастроенными участками. По сторонам ее шли виллы, как в Каире, Рамлее и других местах. Временами тянулись бесконечные, длинные стены, со свисающими, покрытыми пылью ветвями кустов.
Шофер осторожно объехал роту английских солдат, ведших лошадей к водопою. Казалось, что люди в хаки, с засученными на мускулистых красных руках рукавами, везде – от Дублина до Претории, от Хайдерабада до Сиднея – отличались исключительной чистотой и абсолютным безразличием ко всему окружающему. Все же один из них, вынув изо рта трубку, отпустил по адресу Агари такое замечание, что Кохбас побледнел.
Агарь, казалось, его не расслышала.
Она вся ушла в созерцание редких прохожих, шедших маленькими, в три-четыре человека группами.
Какая разница между здоровыми английскими солдатами и этими жалкими, исподлобья смотрящими существами, вид которых наполнял сердце Агари острым чувством отвращения, жалости и любви.
Она так долго жила вдали от своих братьев, что из памяти ее почти совсем изгладились печальные призраки детства.
Евреи из «Колодезя Иакова» одевались по-европейски и сквозь пальцы смотрели на древние обычаи. Под их влиянием она забыла, что еще существуют истинные иудеи.
И вот неожиданно перед ней появился вечный Исаак Лакедем. Его можно было забыть, но не отречься от него, если он вдруг появлялся.
Притворялись другие, не эти люди, в смешных, нелепых одеяниях.
Шли они нетвердым шагом; одни, со свисающими на щеки белокурыми или рыжими пейсами, были одеты в черные сутаны и ниспадающие на стоптанные башмаки штаны; другие, старики, очистившиеся, лихорадочно прижимающие к груди священную Тору, утопающие в широких бархатных одеждах, яркие цвета которых делали еще более жуткими скорбь и муку.
Бархат голубой и зеленый, красный и желтый, тот самый, на котором когда-то меньше всего выделялось проклятое желтое клеймо…
О, сыны Евсея великодушного, Давида великолепного, Соломона, прекрасного и чистого, как лилия степей! Неужели это вы, жалкие, несчастные?!
Чтобы подавить рыдания, Агарь прижала платок к губам. Но тут же охваченная дикой гордостью, пересилила боль и выпрямилась.
Гордость, зачатая в ненависти и хуле, сильнее гордости, порожденной похвалой.
За Ефсиманом, у подножия часовни Вознесения, автомобиль остановился. Перед глазами Агари предстала панорама города, напоминающая огромную серую фотографию, жалкие коричневые пятна кустов и деревьев. Высохшие, наполненные лишь густыми тенями каналы, вокруг которых с грустью узнаешь долины Хинона, Цедрона и Иосафата, груда странных гробниц, похожая на чудовищный, лишенный воды и зелени Лурд; церкви, семинарии, богадельни, казармы и, наконец, хваленая мечеть Омара, кажущаяся лишь жалкой игрушкой, забытой на пятнистой клеенке.
Только небо, затянутое свинцовыми тучами, и грозные горы Моабские, напоминающие холмы какой-то проклятой луны, только жуткая печаль Мертвого моря, точно расплавленное олово сверкающего в глубине своей удушливой пучины, зловещим величием искупают острое безобразие монотонного хаоса. Все здесь словно аномально. Свет, бледный и холодный, точно исходит из подземелья. Редкие птицы, кажется, сеют вокруг несчастье.