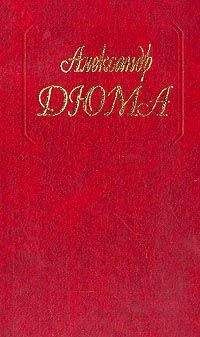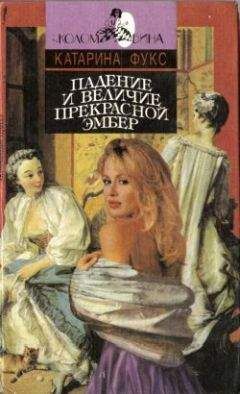— И все же, — зашептали вокруг актеры, — нельзя читать по бумажке такую важную роль. Если объявить публике, что роль Ирода будут читать, она потребует назад деньги.
— Но мне необходимо сегодня вечером играть! — воскликнула Олимпия.
— Почему бы не сделать объявление перед началом? Почему не сказать, что актеру стало дурно? Так мы выиграли бы с полчаса, а за это время можно пуститься на поиски и отловить нашего проклятого святошу; мы бы притащили его сюда силком, даже если придется скрутить его по рукам и ногам, переодели бы его, желает он того или нет, и выпихнули на сцену… Ну, не упрямьтесь же! Объявление, объявление!
— А если его не поймают? — робко спросил чей-то голос.
— Ну и что? — возразил другой. — Публика ведь будет уже предупреждена. Ей сообщат, что недуг серьезнее, чем думали. Тогда его схватят завтра днем, и уж завтра мы наверстаем то, что потеряем сегодня. Если уверить публику, что завтра представление состоится, то, быть может, сегодня она не потребует денег и удовольствуется контрамарками.
— Нет! — решительно заявила Олимпия. — Нет, я хочу играть не завтра, а сегодня! Мне нужен не завтрашний, а сегодняшний успех. Или сегодня роль прочтут, или завтра я не выйду на сцену.
— Но, в конце концов, какие у тебя на то причины? — спросил оратор.
— Дорогой мой! — устремила на него свой взгляд актриса. — Мои причины останутся при мне; приведи я их сейчас, вы, быть может, не найдете их важными, а для меня они вполне достаточны. Я желаю играть сегодня, сегодня, сегодня!
И выразив свою волю таким, как видит читатель, не терпящим возражений способом, комедиантка принялась топать ножкой и терзать веер с такой дрожью в пальцах, какая у всех нервических дам предвещает приближение чудовищного по силе припадка.
Баньер следил за малейшим движением прелестной царицы, его глаза пожирали ее, его дыхание прерывалось на каждом ее слове, а потому крайнее возбуждение ее нервов сверхъестественным образом передалось и ему.
— Но, господа, — воскликнул он, — вы же видите, даме сейчас будет нехорошо, она может лишиться чувств, даже умереть от отчаяния, если вы откажетесь прочесть роль Ирода. Бог ты мой! Да прочтите же ее, наконец! Разве так сложно прочитать роль? Ах, если бы только я не был иезуитом, не будь я послушником!..
— Ну хорошо, не будь вы послушником, что вы, скажите на милость, сделали бы?
— Да я сыграл бы ее, черт побери! — вскричал Баньер, выведенный из себя тревогой, которую внушало ему все возрастающее нетерпение прекрасной Олимпии.
— Как? Вы бы ее исполнили? — переспросил оратор. — Да полноте!..
— А почему бы и нет? — с достоинством возразил Баньер.
— Прежде всего ее пришлось бы выучить.
— О, если дело только в этом, то я ее уже знаю.
— Как? Вы ее знаете? — вскричала Олимпия.
— И не только ее, но и все роли в пьесе.
— Так вы знаете роль Ирода? — повторила Олимпия, подступая к нему.
— Да, и сейчас я это докажу! — тут юноша простер руку и сделал несколько шагов в подражание тогдашней манере шествовать по сцене в трагедии. — Доказательством послужит первый выход Ирода.
И он продекламировал:
Не мил Соэму я! При мне мрачнеют лица. Едва лишь появлюсь, как все спешат укрыться. Ужель внушаю я лишь ненависть и страх? О, проклят, проклят я навек в людских сердцах! Царица и народ бегут меня, бледнея, Корона жжет чело, ужасен сам себе я! Ах, Ирод, разве ты не сеятель беды? Крепись: пришла пора сбирать ее плоды! О Боже!..note 25
Вся труппа вне себя от удивления окружила Баньера, и он читал бы до конца всю сцену, если бы Олимпия не прервала его, возгласив: «Знает, он знает!», а все прочие не начали аплодировать.
— Что ж, — заключил оратор, — вот подлинная удача.
— Мой дорогой сударь, — сказала Олимпия, — нельзя терять ни минуты! А ну-ка сбросьте с себя ваш гадкий иезуитский наряд, который превращает вас в такое страшилище, что прямо страх берет, надевайте костюм Ирода и — живо, живо на сцену!
— Но, сударыня…
— У вас призвание, мой юный друг, — не пожелала слушать его возражений актриса. — А больше ничего и не надо. Остальное приложится после.
— Не говоря уж о том, — настоятельно изрек оратор, — что лучшего случая дебютировать вам никогда не представится.
— Вперед! — перебила его Олимпия. — Быстро оповестить публику! Живо — костюм Шанмеле! Вы только поглядите на него, да он же красавчик! Не то что Шанмеле, эта коровья башка. Да это настоящий восточный царь. Что ж, в добрый час! Какая внешность, какой голос! Ох, быстрее, да пошевеливайтесь же!
Баньер издал вопль несказанного ужаса. Он чувствовал, что в эту минуту решается вся его судьба. Он было попробовал воспротивиться, но Олимпия схватила его за руки. Он что-то забормотал, но ее розовые пальчики закрыли ему рот. Наконец, совершенно оглушенный, опьяненный, обезумевший, он дал себя увести костюмерам, они же за десять минут превратили его в Ирода, причем в уборной самого Шанмеле.
А Олимпия, застыв в дверях гримерной, все подгоняла их, равно как и парикмахеров, с помощью новых и новых слов не давая рассеяться своим чарам, сама трепеща от нетерпения и повторяя: «Ну же! Ну!»
Баньеру оставалось только наблюдать, как с него одно за другим стаскивали все одеяния послушника-иезуита и бросали в кучу в угол, и через десять минут из уборной Шанмеле вышел блистательный, излучающий сияние, по-настоящему прекрасный, совершенно преображенный юный герой, исполненный благородства, как и царица, довершившая его совращение поцелуем.
С этого мгновения Баньер, склонивший голову под ярмо, усмиренный, прирученный, уже не прекословя, только прижав обе руки к готовому выпрыгнуть сердцу, позволил отвести себя в кулисы, как раз когда оратор обращался к залу со следующими словами:
— Господа, наш собрат Шанмеле, выказывавший с начала дня явные признаки недомогания, поражен простудой. Болезнь оказалась достаточно серьезна, чтобы внушить нам немалые опасения за его судьбу и будущее театра. Ко всеобщей радости, один из наших друзей, знающий роль, взял на себя труд прочитать ее вместо него, дабы не сорвать представление, но, поскольку он никогда не играл ни в каком театре и никоим образом не готовился к этому дебюту, он уповает на все мыслимое снисхождение к нему.
На счастье дебютанта, Шанмеле отнюдь не был любимцем публики, а потому весь зал, уже угадавший, что по другую сторону занавеса творилось нечто чрезвычайное, разразился рукоплесканиями.
Они не успели утихнуть, как, дабы не расхолаживать воодушевление зрителей, на сцене пробили три удара, после чего поднялся занавес и воцарилась полнейшая тишина, подогреваемая общим ожиданием.