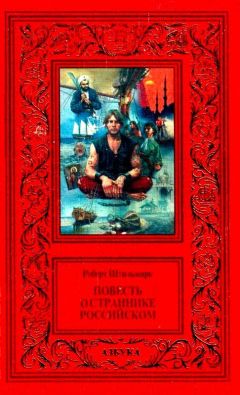И вот Василий Баранщиков — снова вольный человек, в хорошей одежде, с испанским паспортом и испанским золотом в кармане. Прощальный взгляд из-под длинных ресниц провожает его в дальнюю дорогу. За этот взгляд не один знатный сеньор скрестил бы шпагу со своим соперником!
Впервые Василий без опаски и помех спускается в порт Сан-Хуан. У набережной стоит генуэзская бригантина. Через несколько суток она отваливает — так сказали Василию матросы. Ура! Капитан-генуэзец не прочь взять Мишеля Николаева матросом верхней команды. Вознаграждение скромное, но вместе с золотом сеньоры Марии его хватит, чтобы добраться от Генуи хотя бы до границы российской на Днепре или Двине либо до селений казаков донских в южных степях. А там, дома, как говорится, и стены помогают! Не пропадет на Руси купец нижегородский!
Наступил час отплытия. Василий стоял на вахте вместе с молодым венецианцем, матросом Антонио Ферреро, с которым успел подружиться. Звезды загорались над океаном, прибой бесновался и кипел у скалистых мысов острова Пуэрто-Рико, обрушивая свой гнев на каменные твердыни.
Вглядываясь в очертания Сан-Хуана, в тысячи мерцающих огоньков города, Василий, как ни старался, не мог найти одно окошко, откуда следили сейчас за кораблем погрустневшие глаза. Взгляд их долго не отрывался от темнеющего, нефритового моря, пока не перестал различать между зеленоватыми звездами желтый светлячок топ-огня на мачте генуэзского парусника…
Над генуэзским кораблем медленно отгорали необыкновенные, шелками шитые морские зори, сгущались и расходились тучи; когда багровый шар показывался из-за синих волн океана, судно бежало ему навстречу, и тени парусов закрывали корму. Вечером огненное светило тонуло за кормой в пылающем океане и закатные тени лежали на баке — носовой палубе. Все шло хорошо. Наступление нового 1784 года экипаж отпраздновал уже близ африканских берегов, недалеко от Геркулесовых, или «Мелькартовых», столпов, как в старину моряки называли каменные врата к Средиземному морю — Гибралтарский пролив. И именно здесь, на пороге Европы, его поджидало несчастье!
Однажды на рассвете капитан заметил судно, которое летело наперерез курсу итальянского корабля. А подзорную трубу виден был облеченный рангоут и скошенные паруса. Флага нельзя было различить, но у капитана уже зародились недобрые предчувствия. Он знал, что вест-индские товары в его трюме — самая завидная добыча для пиратов: сахар, пряности, ром, табак, выделанные кожи. Знал капитан и про лихих турецко-алжирских пиратов, главарю которых, алжирскому бею, многие государства Европы, например Швеция и Дания, Королевство обеих Сицилий, некоторые вольные города Ганзейского союза, платили дань, за что получали от бея особый паспорт. Он служил защитой при встрече с турецко-алжирскими морскими разбойниками.
Такого паспорта генуэзская бригантина не имела. Капитан ее надеялся, что ему просто удастся избежать встречи с корсарами, наводящими ужас на все Средиземное море. Захваченные пиратами суда и грузы шли на продажу, а экипажи и пассажиры безо всякого снисхождения продавались в рабство. За иных турки брали богатый выкуп, за остальных — выручали немалые деньги на невольничьих рынках. Генуэзскому капитану случалось видеть эти рынки в Стамбуле, Смирне, Алжире и во многих других портовых и приморских городах.
Чужое судно постепенно приближалось. Уже можно было распознать в нем большую турецкую галеру, шедшую под всеми парусами при убранных веслах. Капитан бригантины, чтобы уклониться от опасной встречи, положил руля на четыре румба вправо, под крутой бейдевинд. Расстояние между кораблями начало расти.
Будь ветер попутным — бригантина и с полными трюмами ушла бы от пиратов, но, видимо, турецкий моряк знал толк в здешней погоде! Отставая все больше от итальянцев, турки упорно продолжали преследование, видимо рассчитывая на благоприятную для них перемену ветра. И действительно, к полудню, когда далеко отставшая галера лишь чуть заметным пятнышком темнела на западе, ветер утих совершенно. Наступил полный штиль, паруса итальянской бригантины беспомощно повисли на реях, словно крылья смертельно раненой птицы.
Весь экипаж — капитан, боцман, матросы и корабельный кок, всего восемнадцать человек, — столпился на палубе. Чуть заметно зыбился океан. Длинные плавные валы этой мертвой зыби слегка покачивали корабль, равномерно и монотонно всплескивая и журча за кормой, у руля. Казалось, будто судно все же движется и уходит от грозной опасности… Увы! Стоило взглянуть на сникшие паруса — и надежда на спасение гасла.
Между тем на турецкой галере гребцы по команде опустили весла на воду. Вскоре удары многих пар этих тяжелых весел стали слышны людям на бригантине. Донеслись выкрики на чужом языке. Вот галера уже в одном кабельтове от генуэзского парусника. Видны сизые дымки на борту… Это курятся фитили у турецких канониров. Василий насчитал у противника одну… две… три легкие пушки… Вот поднялся из воды весь ряд весел с одной стороны. Поворот! На носу, на корме, на палубе толпятся бритоголовые усатые люди в фесках и чалмах. Сверкает на ясном послеполуденном солнце турецкое оружие — клинки, пистолеты, ружейные стволы…
А на генуэзском корабле — все будто оцепенели. На борту бригантины не было пушки, команда не имела никакого огнестрельного оружия. Ничего не предусмотрели хозяева судно — даже священника или хоть завалящего монаха-капеллана не имелось, чтобы по всем правилам помолиться о даровании попутного ветра при встрече с опасным врагом! Молитву перед едой обычно читал в пути сам капитан, перемежая «божественные» слова с морскими ругательствами, чем неизменно вызывал оглушительный хохот команды. А нынче и капитан забыл, видно, о небесных силах: с побелевшим лицом, держа в руке ненужную уже подзорную трубу, вглядывается он простым глазом в очертания неприятельской галеры и чувствует себя кроликом, глядящим в разинутую пасть удава.
Только младший матрос, Антонио Ферреро, не поддался тупому отчаянию. В черных глазах венецианца, который был еще так молод, что в прошлом рейсе шел юнгой, Баранщиков заметил выражение непримиримой ненависти. Правую руку Антонио прижимал к поясу. Глядя на юношу, и нижегородец стряхнул с себя гнетущее оцепенение и встрепенулся.
— Что ж, неужели так и помрем под ятаганами, словно скотина безответная? — пробормотал Баранщиков по-русски, обращаясь не то к товарищам, не то к самому себе. Кое-кто из матросов обернулся на звук его голоса. Василий машинально опустил руку к правому колену… Увы! Нет на нем добротных российских сапог с яловыми голенищами, где чуть не с мальчишеских лет покоился булатный тесачок, а носить морской складной ножик за пазухой он так и не приучился. Поздно спохватился теперь!